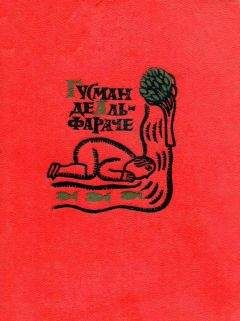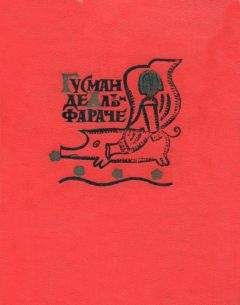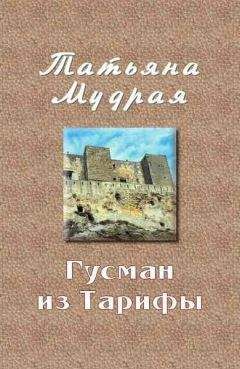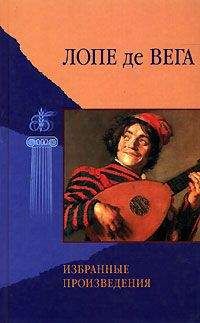— Что ж, Гусманильо, до вечера совсем мало осталось, срок близится. Верно, теперь ты был бы рад взять свои слова обратно? Гляди, отец Николао уже приготовился получить с тебя долг и обдумывает, как получше отомстить, а ты, конечно, ломаешь голову, какую бы каверзу ему устроить. Что до меня, я посоветовал бы ему с тобой помириться, не ради тебя, а ради него самого.
— Ваше преосвященство, — ответил я, — знаю, что в случае проигрыша мне не уйти от отца Николао, но и варенье от меня не уйдет. Я сыграл бы теперь не колеблясь хоть на семерную ставку[204], если бы имел что поставить, кроме своей ничтожной особы, — карты у меня верные.
К концу обеда, когда надо было подавать десерт, я подошел к поставцу, взял чашку, затем поднялся к себе, наполнил ее вареньем из бочонка и, возвратясь в столовую, поставил чашку на стол.
При виде варенья монсеньер изумился — ведь он сам запер бочонки в спальне и, как побились мы об заклад, не доверял ключа никому. Призвав эконома, он велел ему пойти в спальню, счесть бочонки и проверить, может быть, какой-нибудь из них открыт или плохо заколочен.
Эконом нашел бочонки в том виде, как их поставили, и доложил, что они стоят нетронутые, в целости и сохранности, невозможно и подумать, чтобы из них взяли хоть каплю варенья.
— Ага, — сказал монсеньер, — не помогли тебе твои плутни! На сей раз не вывернешься! Ты думал убедить нас, что взял варенье из моих бочонков, а на самом-то деле купил его за свои деньги!
— Отец Николао, — обратился он к секретарю, — отдаю Гусманильо в ваши руки, делайте с ним что хотите, потому что он проиграл.
Секретарь ответил:
— Ваше преосвященство, благоволите сами подвергнуть его наказанию, какое сочтете нужным, а я не только к нему, но к тени его боюсь подойти близко, — это такой озорник, со всего света нагонит мошек, чтобы меня живьем съели. Коль мне поручается выбрать ему наказание, то я его прощаю и хочу жить с ним в дружбе.
— Я пока ни в чем не провинился, — ответил я, — нечего меня прощать. Где нет материи, излишне искать форму. Я выиграл заклад, а ежели я лгу и вы меня уличите, наказывайте, как пожелаете. Но что толку в словах там, где можно показать дела? Я утверждаю, что варенье это взято из привезенного вчера запаса; более того, в моей комнате стоит целый бочонок.
Монсеньер только крестился, дивясь моей ловкости. Кончился обед, убрали со стола, а он все еще крестился, Желая удостовериться самолично, монсеньер встал и пошел в спальню. На бочонках были у него сделаны метки, они оказались нетронутыми, бочонки все по счету, ключ при нем — чудо, да и только.
Он еще более утвердился в мысли, что я купил себе такой же бочонок.
— Гусманильо, — обратился он ко мне, — ты не помнишь, их сюда поставлено столько-то? А ну-ка, пересчитай.
Я сосчитал бочонки и сказал:
— Ваше преосвященство, они все на месте, но крадет волк и считанную овцу. С виду они в порядке, а на самом деле не все; хотите убедиться, прикажите принести сюда бочонок, что стоит в моей комнате, и открыть вот этот — он подменен.
Бочонок открыли и отдали должное моей правдивости и изобретательности, о коих свидетельствовали земля и тряпье в бочонке. Посыпались вопросы, как я это сделал, но я не отвечал.
Прежде всего я попросил монсеньера выполнить обещание. Он тут же распорядился дать мне второй бочонок, так что у меня их стало два. Однако, чтобы все видели мое благородство, я этот второй бочонок целиком отдал моим товарищам.
И хотя монсеньер был поражен дерзкой покражей, еще больше поразила его моя щедрость, которую он весьма одобрил. Проказы эти, однако, уже начали внушать ему опасение, и не будь он человеком поистине святым, несомненно выгнал бы меня.
Но монсеньер, видимо, рассудил так: «Если я лишу его своей поддержки, то при столь дурных наклонностях он совсем пропадет. Его проделки в моем доме — всего лишь ребяческие шалости, от которых нет большого ущерба. Пускай лучше тащит мелочи у меня, нежели совершает от нужды крупные кражи у других». И чтобы смягчить мою вину, монсеньер обратил проступок в шутку. Поправимое зло надобно исправлять, а непоправимое — смягчать. Над проделкой моей много смеялись, и монсеньер рассказывал о ней, как приходилось к слову, всем князьям и дворянам, его посещавшим.
ГЛАВА IX
о второй покраже сластей, учиненной Гусманом де Альфараче в доме монсеньера, и о том, как он из-за страсти к картам этот дом покинул
В любви к ближнему есть свой уряд и чин, как я уже говорил прежде: сперва бог, за ним родители, затем дети, за детьми слуги, причем хороших слуг надлежит любить больше, нежели дурных детей. У монсеньера детей не было, и к нам, своим слугам, он питал самую нежную любовь, ставя нас сейчас же после бога и бедняка, образа божьего. Милосердие его не знало предела, а оно есть лучший плод и живительный огнь духа святого, высшее из всех земных благ, прекрасное начало, ведущее к блаженному концу. В милосердии обретаются вера и надежда. Оно — путь к небесам, узы, соединяющие бога с человеком, чудодейственная сила, бич для гордыни и источник мудрости.
Монсеньер желал моего блага, как своего собственного. Он учил меня духом кротости, а не палкой по кости. И чтобы проверить, способен ли я обратиться к добродетели, он оделял меня яствами со своего стола, избавляя от соблазна и желания воровать. Делясь со мной лакомствами, он приговаривал:
— Даю тебе это, Гусманильо, в залог дружбы и мира; я, как и отец Николао, не хочу с тобой ссориться, а потому удовольствуйся сим угощением, которое я подношу тебе как вассал своему сеньору.
Говорил он это с веселой улыбкой, не смущаясь тем, что за столом сидели важные господа. Добрейший был человек! Слугам оказывал доверие и уважение, был с ними щедр и ласков, помогал чем мог, отчего все они души в нем не чаяли и служили верой и правдой. Коль хозяин справедлив, слуга усерден — хороша плата, хороша и работа; но для хозяина добросердечного челядь жизни не пожалеет. И наоборот: человеку скупому, надменному и неблагодарному не дождаться ни любви, ни усердия; много у него слуг, да мало услуг; его осуждают, бранят, поносят на улицах, площадях и в судах; он всем ненавистен, и никто за него не заступится.
Знали бы господа, сколь важно иметь честных и преданных слуг, свой кусок бы им отдали, ибо в слугах истинное богатство. Не может слуга быть усерден, когда хозяин его не любит.
Привезли как-то монсеньеру из Генуи несколько ящиков с цукатами, таких больших, позолоченных, разукрашенных — просто загляденье! Цукаты были недавнего приготовления и в пути слегка отсырели. Когда их показали монсеньеру, он весьма обрадовался; особливо потому, что изготовила и прислала их его родственница, от которой он часто получал такие подарки. Меня тогда дома не было, и в мое отсутствие устроили совет, как эти цукаты подсушить и вместе с тем уберечь от меня. Надо ведь было выставить их на солнце, а скрыть их от меня не удалось бы даже в урне с прахом Юлия Цезаря. Все давали советы, но ничего подходящего не могли придумать.
Наконец монсеньеру пришла на ум счастливая мысль.
— Напрасно мы ломаем голову над тем, куда спрятать цукаты, — сказал он. — Отдадим их на хранение самому Гусману — это будет надежней всего.
Предложение одобрили, и когда я пришел, монсеньер спросил меня:
— Скажи, Гусманильо, что нам делать с этими отсыревшими цукатами, чтобы они вконец не испортились?
Я сказал:
— По-моему, ваше преосвященство, самое верное дело съесть их немедля.
— И ты взялся бы съесть их все сразу? — спросил кардинал.
— Не так уж их много, — ответил я. — Дайте мне срок побольше, и я один управлюсь с ними, но я не обжора и не стану есть их сейчас в присутствии столь почтенного и многочисленного общества.
— Так вот, я хочу, чтобы ты их хранил и каждый день выносил ящики на солнце, только, чур, не плутовать. Ящики тебе сдадим по счету, и ты должен вернуть их все до единого. Они, как видишь, откупорены и наполнены доверху. Уверен, что никакой беды с ними не случится.
— А я не уверен, — отвечаю, — ни в самом себе, ни в сохранности ящиков, ибо я — сын Евы и, очутившись в таком цукатном раю, могу поддаться искушению змия плоти.
Монсеньер опять свое:
— Ну смотри, дело твое, а только ты должен вернуть ящики в том виде, в каком я их даю тебе, целыми и невредимыми, иначе тебе несдобровать.
Я ему:
— Не о том речь, чтобы вернуть их в целости, без видимого изъяна и нехватки, — это дело нетрудное. Меня смущает другое.
— Что же тебя смущает? — спрашивает монсеньер.
— Да то, — говорю, — что соблазн велик. Я знаю свою слабость, знаю и то, что выполню все условия, а все-таки сумею изловчиться и полакомиться вволю.
Монсеньер с удивлением сказал:
— Вот как? Что ж, покажи нам свое уменье. Даю тебе разрешение один раз досыта поесть этих цукатов, но с условием, что ящики ты мне вернешь целыми, без недостачи, а ежели мы ее заметим, будешь наказан.