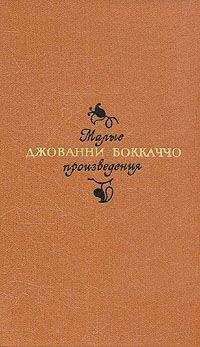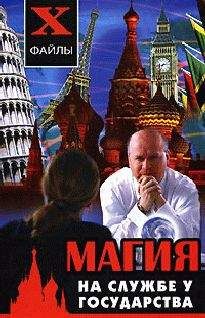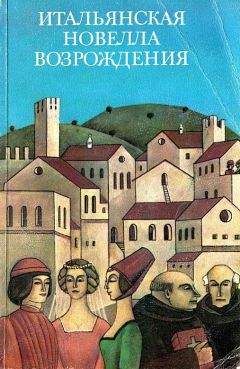Ознакомительная версия.
«Прощай, душа моя!»
Служанка промолчала, видя мою ошибку, я же очнувшись и увидев, что я обозналась, едва сдержалась, чтобы снова не лишиться чувств.
Уже совсем был белый день, когда, увидя себя в горнице без своего Панфило, обвела я глазами стены и, долго помолчав, спросила, будто сама не Зная, у служанки, что с ним сталось. Плача та отвечала:
«Уж много времени прошло, как он сюда принес вас на руках и днем был принужден, заливаясь слезами, расстаться с вами».
Я ей сказала:
«Значит, он уехал?»
«Да», – ответила служанка.
Тогда я спросила дальше:
«С каким же видом он уехал? С мрачным?»
«С печальным, – ответила она, – я никогда не видела никого грустнее».
«Что он делал, что говорил, когда уезжал?»
Она ответила:
«Вы как мертвая остались на моих руках, душа ваша блуждала неведомо где; когда он увидел вас в таком положении, нежно взял к себе на руки, ища рукою, не покинула ли вас боязливая душа, но услыша, что ваше сердце сильно бьется, заплакал и сотню раз призывал вас к последним поцелуям. Но видя вас недвижною как мрамор, принес вас сюда и, опасаясь худшего, со слезами целовал ваше лицо и говорил: «Высшие боги, если в моем отъезде есть какая-нибудь вина, пусть кара падет на меня, а не на невинную женщину; верните ее блуждающую душу, чтоб мы были утешены последним утешением увидеться перед разлукой и поцеловаться на прощанье». Но видя, что вы не приходите в чувство, растерявшись, не зная, что сделать, потихоньку полежил вас на постель, и как морские волны, гонимые ветром и дождем, те набегают, то отступают, так он отходил от вас, медлил на пороге[71], смотрел в окно на небо, неблагоприятное его пребыванию, потом снова возвращался к вам, снова звал вас, проливал слезы и целовал ваше лицо. И повторялось это несколько раз; наконец, видя, что дольше не может оставаться, обнял вас со словами: «Нежнейшая госпожа, единственная надежда печального сердца, которую я против воли оставляю лишенною чувства, пусть бог тебя укрепит и сохранит, чтобы счастливые еще мы свиделись, а не разделились горькой разлукой неутешные!» При этих словах он так горько плакал, что иногда я боялась, как бы его рыданий не услышал кто-нибудь из домашних или соседей. Но видя, что яркое утро не дает ему возможности оставаться дольше, заливаясь слезами, он простился и, будто изнемогая, запнулся о порог[72] и вышел из вашего дома. Выйдя на улицу, он будто совсем не мог идти, так оборачивался на каждом шагу, словно надеясь, что вы пришли в себя и я его верну». Тут она умолкла; я же, о женщины, можете представить в какой скорби об уехавшем любезном безутешно осталась плакать.
в которой описывается,
что думала и делала эта госпожа до дня,
когда ее возлюбленный обещал вернуться
В таком состоянии, как я описала, женщины, я осталась после отъезда моего Панфило и много дней в слезах горевала о его отсутствии, все время мысленно говоря: «О Панфило мой, как могло случиться, что ты меня покинул?» И вспоминая это имя, я несколько утешалась. Я обводила глазами, полными желанья, свою комнату, говоря себе: «Здесь Панфило мой сидел, там лежал, здесь обещал мне вернуться скоро, там я его поцеловала», – и всякий уголок был мил мне. Иногда я воображала, что он вернулся и придет ко мне, и как будто он в самом деле пришел, обращала взоры свои к двери; и одураченная собственной выдумкой, так страдала, будто в самом деле была обманута. Часто, чтобы не предаваться бесполезным мечтаньям, я хотела приняться за какое-нибудь дело, но под властью новой фантазии бросала его, и несчастное сердце непрерывно меня мучило необычным биением. Я вспоминала многое, что я хотела бы ему сказать и что сказала, его слова про себя повторяла, и так, равнодушная ко всему, многие дни провела я в печали.
Но когда острая боль первых минут после разлуки под влиянием времени несколько смягчилась, ко мне стали приходить более крепкие мысли и защищать себя правдоподобными доводами. Через несколько дней, находясь в своей комнате, я так рассуждала сама с собою: «Вот теперь твой милый уехал и едет, а ты, несчастная, не могла ни проститься с ним, ни ответить на поцелуи[73], данные твоему помертвелому лицу, ни видеть его отъезда: может быть, он помнит это и, если случится с ним какое-нибудь затруднительное положение, приняв твою молчаливость за дурное предзнаменование, может упрекнуть себя за тебя». Эта мысль меня сначала очень огорчила, но потом ее вытеснило другое соображение, а именно: «За это нечего упрекать, потому что, если он не глуп, то случай со мною скорей сочтет за счастливое предзнаменование, говоря: «Она не простилась, как прощаются с уезжающими надолго или навсегда, но молча, как бы считая меня около себя, она указала на кратковременность нашей разлуки». И так утешая сама себя, я предавалась новым и новым мыслям.[74]
Иногда я начинала беспокоиться, что он запнулся о порог уходя, как рассказывала мне верная служанка, и приходило мне на память, что не по иному какому признаку была у Лаодамии уверенность, что не вернется Протесилай[75], и много раз я об этом плакала, думая, что это предвещает то, что случилось. Но не понимая еще, что грядущее мне готовит, я думала, что мысли эти, как пустые, нужно гнать прочь. Но они не уходили по моему желанию, а иногда уступали место другим, столь многочисленным и разнообразным, что даже количество их вспомнить я затруднилась бы.
И всякий раз, как я вспоминала, что он в дороге, мне приходили на ум стихи Овидия, прежде читанные, что труд и усталость у молодых прогоняют любовь из головы[76]. А зная, что это – немалая докука тем особенно, кто делает против воли и привык к покою, я опасалась, во-первых, как бы он меня не забыл, а потом, как бы не захворал или не случилось с ним чего-нибудь еще худшего от непривычного утомления и дурной погоды. Помню, что этим я больше всего была озабочена, хотя, принимая во внимание, как он плакал, что я видела собственными глазами, и что я не теряю верности от утомления, предполагала, что невозможно такому незначительному горю угасить столь сильную любовь, и надеялась, что его молодость и осторожность в опасных случаях оставят его в целости.
Так сама с собою сомневалась, вопрошала, отвечала и провела в этом столько дней, что не только считала его приехавшим на родину, но даже была извещена об этом его письмом. По многим причинам было приятно мне это письмо, открыто выражавшее весь его пыл и клятвенными обещаньями оживившее мои надежды на его возвращение.
С этих пор, оставивши прежние думы, внезапно предалась я новым мыслям, родившимся вместо тех. Иногда я размышляла: «Теперь Панфило, как единственный сын старого отца, который его много лет не видел, принимается с большим ликованьем, я не думаю, что он не вспоминает обо мне, но боюсь, что проклинает те месяцы, что он по разным причинам промедлил из-за любви ко мне, и, чествуемый то тем другом, то другим, может быть, порицает меня, которая только и умела, что любить, пока он был здесь; а сердце, преданное празднествам, готово забыть одно место и привязаться к другому. Увы, возможно ли, чтобы я его потеряла таким образом? Едва ли вероятно. Боже, не допусти, и как я принадлежала и принадлежу ему среди своих родственников и в своем городе, так и его сохрани моим на его родине среди своих». Увы, с какими слезами смешивались эти слова, но с еще большими были бы смешаны, если б я верила тому, что они как бы предвидели, так как те, что тогда я не доплакала, впоследствии вдвойне, но втуне пролила.
Помимо этих размышлений сама душа моя, вещунья грядущих зол, часто охваченная неведомым страхом, трепетала, и этот страх иногда выражался в таких соображениях: «Теперь Панфило на своей родине посещает великолепные храмы, которых там так много, торжественные богослужения и, без всякого сомнения, видит там множество женщин, они же (как я неоднократно слышала) не только славятся красотою, но и веселостью, прелестью и уменьем как никто завлекать в свои сети. А кто так бдительно себя устережет, чтобы при таком стеченьи обстоятельств, положим, против воли, насильно не был бы увлечен? Я сама влюбилась против воли, к тому же новое всегда приятно[77]. Поэтому легко может случиться, что он им, а те ему понравятся как новинка». О, как было тяжело мне представить это! Насилу могла я прогнать мысль о том, чего с ним не должно было случиться, так рассуждая: «Как же может Панфило, любящий тебя больше самого себя, полюбить кого-нибудь сердцем, которое занято тобою? Разве ты не знаешь, что здесь была одна, вполне достойная его, которая усиленно, не только взглядами, хотела проникнуть в его сердце и не могла? Едва ли вероятно, чтобы он так скоро, как ты говоришь, влюбился, даже не будучи твоим, которой он уже столько времени принадлежит, и предположив, что те женщины по красоте и искусству равняются богиням. К тому же неужели ты веришь, чтобы он для какой-нибудь другой нарушил клятвы, данные тебе? он этого никогда бы не сделал, и ты должна иметь доверие к его скромности. Ты рассудительно должна подумать, что не настолько он неразумен, чтобы не знать, что глупо бросать, что имеешь, чтобы приобретать то, чего не имеешь, если только не бросаешь ничтожнейшей вещи, чтобы приобресть очень значительную; итак, имей неложную надежду, что всего этого не может быть. Кроме того, если тебе говорили правду, то в его городе нет ни одной такой богатой и привлекательной женщины, как ты; к тому же, кого он найдет, которая так же сильно, как ты, его любила бы? Если он человек опытный, то знает, как трудно склонить женщину к новой любви; даже если они полюбят, что редко случается, то всегда показывают вид противоположный их желанию. Даже если б он тебя не любил, то, занятый своими делами, не нашел бы времени ухаживать за новыми женщинами; а потому не думай об этом, а считай установленным, что насколько ты любишь, настолько ты любима».
Ознакомительная версия.