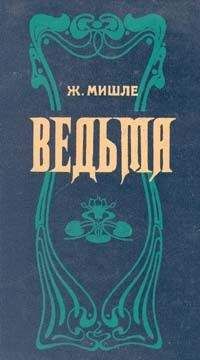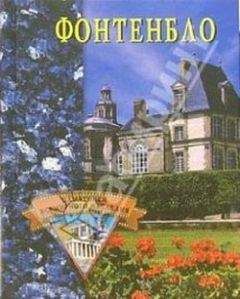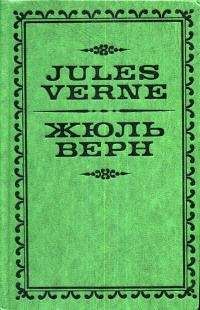Когда карал сам Бог, когда над грешником тяготела его рука, когда он мстил мечом ангела (как гласит древняя формула), то это было не так ужасно. То была рука, правда, суровая, но рука судьи и отца. Ангел, наносивший удар, оставался чистым и ясным, как его меч. Совсем иное дело, если приговор исполнялся нечистыми духами. Они поступают не как тот ангел, который, прежде чем сжечь Содом, покинул его. Они, напротив, остаются, и их ад похож на ужасный Содом, где духи, более гнусные, чем грешники, отданные в их власть, находят низменное наслаждение причинять страдания им. Такое поучение извлекал зритель из наивных скульптур, украшавших порталы соборов. В них таилась ужасная идея о сладострастном упоении чужим страданием. Под предлогом наказания дьяволы удовлетворяли на своих жертвах свои самые возмутительные капризы — безнравственная и глубоко преступная концепция мнимой справедливости, которая на деле увеличивает их извращенность, отдавая в их руки игрушку, и совращает самого дьявола.
* * *
Жестокое время.
С самых нежных лет бедные маленькие дети пропитываются этими ужасными идеями, дрожа уже в колыбели. Невинная чистая девушка сознает себя осужденной за удовольствие, исходящее от злого духа. Замужняя женщина, обессиленная его нападениями, борется и, однако, порой чувствует их в себе. Ужасное состояние, знакомое тем, кто страдает глистами. Сознавать в себе еще одну жизнь, ясно различать движения чудовища, иногда резкие, иногда тихие и приятные, еще более волнующие, точно находишься на море, — разве это не ужасно! И потеряв голову, человек обращается в бегство, пугаясь самого себя, желая спастись, умереть.
Даже тогда, когда дьявол не подвергал женщину своим жестоким нападкам, она — уже в его власти — бродит, подавленная печалью. Отныне нет спасения. Дьявол вошел в нее победоносно, как нечистый пар. Он — князь ветров и ураганов, а также душевных бурь. Под порталом Страсбургского собора эта мысль выражена грубо, но сильно. Стоящая во главе толпы Безумных Дев их атаманша, увлекающая их в пропасть, вздулась, одержимая дьяволом, выходящим из-под ее юбки в виде черных клубов густого дыма.
Эта вздутость живота — страшный признак одержимости. То пытка, но и предмет гордости для женщины. Страсбургская горделивица выставляет вперед свой живот и запрокидывает голову назад. Она гордится тем, что она вздулась, она — чудовище.
Женщина, за судьбой которой мы следим, пока еще не чудовище. И однако, и она уже полна им и его высокомерием, мыслью о своей новой счастливой доле. Земля не носит ее. Полная и красивая, она идет по улице с гордо поднятой головой, полная беспощадного презрения. Ее боятся, ее ненавидят, ею восхищаются. Вся поза, каждый взгляд деревенской царицы говорят: «Мне следовало бы быть дамой. Что делает она там, наверху, бесстыдная ленивица, окруженная столькими мужчинами, когда нет мужа?
Так устанавливается соперничество между ними. Деревня проклинает ее и — гордится ею. Если хозяйка замка — баронесса, то она — царица, даже больше царицы, жутко сказать, кто она.
Что за страшная и фантастическая красота, блещущая гордостью и дышащая скорбью. В глазах ее — сам дьявол.
Она отчасти уже во власти дьявола, но еще не совсем. Она все еще остается сама собой. Она не принадлежит ни Богу, ни дьяволу. Пусть злой дух вселился в нее и вращается в ней легким паром — он еще не подчинил ее себе, так как ее воля все еще в ее власти. Пусть она одержима — она еще не собственность дьявола. Порой он совершает над ней страшное насилие — однако без всякой для себя пользы. В грудь, в живот, во внутренности ее он кладет горящий уголь. Она извивается, вздымается на дыбы и все-таки продолжает говорить: «Нет, палач! Я останусь сама собой». «Берегись! Я хлестну тебя таким страшным ударом кнута из змей, что ты заплачешь и крики твои пронзят воздух.
В следующую ночь он не является. В воскресенье утром муж отправляется наверх в замок и возвращается расстроенный, подавленный. Сеньор заявил: «Ручеек, текущий по каплям, не в силах привести в движение мельницу. Ты приносишь мне деньги грошами, и от этого мне нет никакой пользы. Недели через две я должен уехать. Король отправляется походом во Фландрию, а у меня нет даже боевого коня. Мой хромает с последнего турнира. Живей! Мне нужно иметь сто ливров».
«Но где их найти, господин?»
«Если хочешь, ограбь всю деревню. Я дам тебе людей. Скажи этим мужикам, что они погибли, если не будет денег, а ты — в первую голову. Ты надоел мне. Ты баба. Ты трус и лентяй. Ты погибнешь, расплачиваясь за свою трусость и мягкость. Я тебя не отпущу. Сегодня ведь воскресенье. Как они будут смеяться, если увидят снизу, как ты болтаешь ногами на амбразуре дамка».
Бедняга передает жене этот разговор. Весь охваченный отчаянием, он готовится к смерти, отдает душу на попечение Бога. Жена, не менее его напуганная, не может ни лечь ни спать. Что делать? Как жаль, что она отказала Духу! О! Если бы он снова явился!
Утром, когда муж встает, она падает в изнеможении на постель. Не успела она лечь, как чувствует какую-то тяжесть на груди, тяжело дышит, задыхается. Тяжесть спускается ниже, давит на живот, и в то же мгновение она чувствует вокруг своих рук чьи-то стальные руки.
«Ты звала меня! Вот я и пришел. Наконец-то, непокорная, твоя душа принадлежит мне».
«Разве она принадлежит мне? Мой бедный муж… Ты ведь его любил… Ты сказал… Ты обещал».
«Твой муж! А разве ты забыла? Разве ты всегда была ему верна? Отдай мне душу твою. Я прошу ее у тебя, хотя она и так моя».
«Нет, мессир, — говорит она в приливе гордости, Побуждающейся в последний раз, несмотря на безвыходность положения. — Нет, мессир, моя душа принадлежит мне, моему мужу, святым таинствам…»
«Ах, глупая, глупая, непоправимо глупая! Ты еще продолжаешь бороться под кнутом… Я видел твою душу, знаю ее каждый миг и лучше, чем ты сама. День за днем следил я за тобой, видел, как ты сначала восставала, потом впадала в печаль и отчаяние. Я слышал, как ты уныло вполголоса говорила: «На нет и суда нет». Наконец, я видел, как ты примирилась. Тебя немного побили, и ты кричала не очень громко… Если я требую твою душу, то потому что ты и так ее потеряла. Твой муж теперь гибнет… Как быть? Мне жаль вас. Ты принадлежишь уже мне, но я хочу, чтобы ты уступила мне, стала моей сознательно. Иначе он погибнет.
А она во сне тихо отвечает: «Возьми мое тело, мою жалкую плоть. Но спаси бедного мужа. Лишь мое сердце не отдам я тебе. Оно еще никому не принадлежало, и я не могу его отдать».
Покорная, она ждет ответа. А он в ответ произносит два слова: «Запомни их. Это твое спасение».
И вдруг она чувствует: дрожь пробежала по всему телу, точно огненная стрела пронзает ее, точно она погружается в ледяную волну. Она испускает громкий крик.
Она в объятиях удивленного мужа и орошает его слезами.
* * *
Порывисто вырывается она, поднимается, боясь забыть эти слова.
Муж в ужасе. Она не видит его, бросает на стены острый взгляд Медеи. Никогда не была она так прекрасна. В черных зрачках, окаймленных желтоватым белком, сверкал блеск, от которого становилось больно, точно сернистое извержение вулкана.
И вот она идет в город. Первое слово гласило «зеленый». В дверях лавки висит зеленое платье (зеленый цвет — цвет князя мира). Платье старое, но как только она его надела, оно стало новым, ослепляло. Ни у кого не спрашивая дороги, отыскивает она дверь еврея и громко стучится. Ей открывают со всевозможными предосторожностями. Сидя на земле, бедный еврей весь обсыпал себя пеплом.
«Мне нужно сто ливров».
«Сударыня, разве у меня есть такие деньги? Князь-епископ велел мне вырвать все зубы, чтобы заставить сказать, где мое золото. Посмотри на мой окровавленный рот».
«Знаю, знаю. Но я пришла к тебе именно за тем, что может уничтожить этого епископа. Раз папе дают пощечину, то несдобровать и епископу. Кто говорит так? Толедо[1]».
Он сидит, склонив голову. Она говорит и подсказывает. У нее цельная душа, и, кроме того, дьявол за нее. Нестерпимая жара наполняет комнату. Ему кажется, точно около него — источник огня.
Глядя на нее исподлобья, он говорит: «Сударыня, я беден, я разорен. Есть у меня только несколько грошей для моих бедных деток».
«Тебе не придется раскаяться, еврей… Я готова произнести великую клятву, от которой умирают».
«Через неделю ты получишь от меня то, что хочешь дать мне. Клянусь твоей клятвой и моей, еще более страшной: Толедо».
* * *
Прошел год.
Она округлила свое именьице, ходила в золоте… Исходившее от нее очарованье удивляло всех. Все были в восторге от нее и слушались ее. В силу какого-то дьявольского чуда еврей, ставший щедрым, давал взаймы при малейшем намеке. Она одна поддерживала замок как своим кредитом в городе, так и своими грубыми вымогательствами, нагонявшими страх на деревню. Всюду виднелось пышное зеленое платье, которое с каждым днем становилось все новее и красивее. А сама она сияла беспредельной красотой торжествующей надменности. Одно обстоятельство пугало всех. «В ее годы она растет».