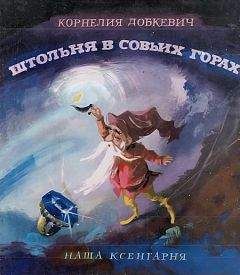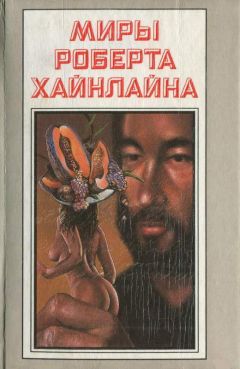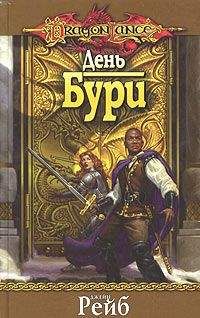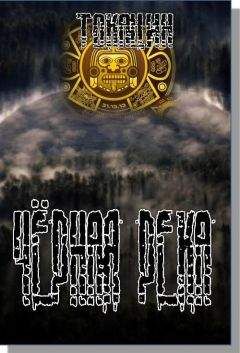Шумно в городе, людей на улицах множество, упряжки богатые мелькают перед глазами, а веселые девичьи очи вслед отряду конному глядят. Всё это так Метека отуманило, так зачаровало, что и сам он понять не мог — что с ним творится.
Недолго отдохнув в казармах императорской конницы, направился Метек в роскошный дворец. И только лишь ступил туда — слуги сказали ему, что император повелел лейтенанту и молодому музыканту тотчас к нему явиться.
Пошли они вдвоем, вслед за слугами, по коврам пушистым, по лестницам из белоснежного мрамора. Миновали десять, а может и двенадцать покоев, пока в одном из них, самом пышном, не увидели императора. Сидел он в кресле пурпурном с золочеными подлокотниками, а вокруг него — большая толпа молодых и старых дам, разодетых в шелка и кружева. При них находились кавалеры в богатых мундирах и золототканной одежде придворной. И такие все они были разнаряженные, что Метек не знал, на которого из них раньше глядеть.
Все в этом покое стояли — только один император сидел. Завидев Метека, державшего в руках старинную горскую скрипку дивной работы, придворные зашептались меж собой. Некоторые даже головой покачали, красоту молодого крестьянина оценив, а дамы помоложе какими-то замечаниями обменялись, губки веерами прикрывая.
Поклонился Метек императору, как полагалось, потом придворным его, министрам и дамам.
Император милостиво рукой знак ему сделал — играй, мол! Со всех сторон на юношу множество глаз устремилось — темных и светлых; некоторые — снисходительные к простому горцу, а некоторые — недоверчивые и насмешливые.
Но сам Метек не смотрел на них — ни на императора, ни на придворных его. Достал из рукава накидки смычок, скрипку яворовую положил на левое плечо, подбородком прижал и… Показалось ему, что от струн громкозвучных и деки старой пахнула на него дивная услада какая-то, и отрада необыкновенная, словно рука матери на плечо его легла…
И начал Метек играть. Глаза огненные прикрыл, а мыслями весь в горы свои любимые перелетел. Легкими и тихими поначалу были звуки скрипки — будто листва буковая летнею порою шелестит. Потом трогательными и грустными стали — как весенний плач кукушки, что в лиственнице тоскует. Наконец повеселела мелодия и громко так, на разные голоса, зазвучала, словно чижи и дрозды на черешне возле хаты Метека распелись. Чарующими были эти звуки скрипки яворовой и за сердце всех придворных хватали. Дамы платочки душистые к очам поднесли, кавалеры тайком вздыхать начали. Даже император головой лысой покачивал, на лице его жирном и румяном, с рыжими бакенбардами, улыбка легкая мелькнула.
А Метек по-иному стал играть. Сперва медленно, степенно и грустно, а потом вдруг посыпались из-под его смычка звуки чистые, дробные, будто мак. Только одна нотка прозвучала, а за нею уже другая спешит! И летели они тесной стайкой, как чистые капельки из туч, что весной над горами моросят…
Смеялась, пела, шутила скрипка яворовая. Всё громче звучала в покоях императорских задорная, плясовая мелодия. Каждого она трогала чарами особыми — то огневая и грустная одновременно, то извечно старая и молодая сразу. А был это овензёк — танец народный из Конякова и Истебной.
И казалось людям:… вот юноша-дирижер первую строчку песни запел, потом притопнул на месте и склонил хор, чтобы дальше его мелодию подхватил. А когда скрипачи и парни, что на гайдах[12] играют, призыв его услышали — начал юноша кружить по середине хаты, да на стоящих вокруг девчат поглядывать — будто выбирал то одну, то другую. Потом махнул рукой, словно отказался от выбора, но тут же знак дал и по имени девушку из толпы вызвал, чтобы с облюбованной плясуньей своей потанцевать… Много было в этом народном танце поворотов искусных и красивых, этакого молодецкого притоптывания ногой о пол, взглядов огненных, улыбок ласковых!
Хорошо умел Метек выразить всё это звуками скрипки яворовой, да к тому же еще и красиво сыграть! Забыл он в ту минуту, где находится, и кто смотрит на него. Видел перед собой только горы любимые — то в багрянце заката, то в изумрудных коврах лугов, то в наряде лесов пихтовых, через которые, словно шитье серебряное, текли шумные потоки.
Играл Метек, слегка откинув назад красивую и гордую черноволосую голову, с румянцем на смуглом лице, и с огоньком в очах.
А император, важно восседая на пурпурном кресле, явственно, хоть и не сильно, украдкой, притоптывал о пол ногой в лакированной туфле. Министры же, руки в бока уперев, гордо поглядывали друг на друга — ну, совсем так, как это в овензёке делают танцоры-соперники! Некоторые даже громко ногами в пол ударяли, пританцовывая на месте, позабыв об этикете придворном. Еще бы немного, и подхватили бы они дам, чтобы затанцевать, да поскакать по залу, покрикивая задорно — как это развеселившиеся горцы с Бараньей Горы делают…
Но тут Метек закончил играть и стоял, тяжело дыша, с горящими глазами, словно только что очнулся под взглядами императора и его двора.
— О, какой великолепный музыкант! — слышалось вокруг. — Какой у него чудесный инструмент! Какой чистый тон!
— Кто бы мог предположить, что простой крестьянин сумеет так владеть смычком!
— Я думала, что не удержусь и пойду танцевать, несмотря на присутствие его величества… — говорила одна дама другой.
— Захватывающая мелодия!
— Необычайная… Неслыханная!
— Прекрасная!
Император жестом руки подозвал Метека. И когда Метек несмело сделал несколько шагов к нему, император сказал:
— Мне нравится твое искусство, юноша. Я хочу, чтобы ты был здесь, при моем дворе. Поэтому останься во дворце — не пожалеешь: всё у тебя будет! Своей игрой станешь ты развлекать нас самих и достойное общество венское…
Повелел тут император подать Метеку кошелек с деньгами.
Поблагодарил Метек императора за этот дар и за милость к нему, но в душе понял всё и задумался горько: такое приглашение означало всю жизнь в клетке золотой провести, от милости и немилости императора зависеть. Понял еще, что будет страшно тосковать по горам любимым, по матери родной, по далекой горной деревне…
Встревожила парня милость императорская, напугало приглашение властное. Однако ум его рассудительный, хороший совет тут же подсказал:
— Государь мой милостивый! — сказал он, подождав немного, будто придя в себя после счастья такого нежданного. — При дворе вашем остаться, — это большая честь для меня, и от всего сердца благодарю за нее. Однако, позвольте мне слово молвить: до того, как мне тут в Вене навсегда остаться, разрешите еще раз в горы съездить, с матерью старой проститься?
Все окружающие сочувственно головами кивнули, а император промолвил:
— Достойна похвалы твоя сыновняя привязанность! Поезжай же к себе в горы, юноша, простись с матерью. Но к весне возвращайся к нам, в Вену!
Вот так и удалось Метеку, хоть и на короткое время, вырваться на свободу из клетки золотой.
Вернулся Метек домой в солнечный день зимний. А ехал он всю дорогу на сером коне собственном, которому в Вене купил уздечку, серебром украшенную. Люди по пути встречали его, как важную особу, из окон ему глаза девичьи улыбались. Но парень ни в одной деревне не остановился, не поговорил ни с кем — домой торопился. Скакал по дороге, что высоко в горы ведет меж заиндевевших пихт — к вершине Бараньей Горы, где его хата стоит. К матери спешил!
Издалека заприметила сына обрадованная старушка. Скорее дров в печку подбросила, горшок с борщом ближе к огню подвинула, а рядом — еще горшок, с клёцками. Сама же, как возилась у печи в безрукавке — за порог хаты выбежала: встречать Метека после дальней дороги.
— Вернулся, сынок мой ненаглядный!
— Здравствуйте, матушка! Вернулся…
Сердечно обнял Метек старушку, руки ее натруженные поцеловал, а она — в радости несказанной — скорее Метека в хату повела.
Пока уставший от долгого пути конь уже овсом в теплой конюшне лакомился, а молодой скрипач борщ и клёцки доедал, начала старушка расспрашивать сына про Вену, про императора и двор его, про дорогу дальнюю. Любопытно ей было — каково-то пришлось ее дорогому сыну в том далеком свете?
— Хорошо, матушка, всё хорошо! — с этими словами положил Метек на стол кошелек с деньгами.
А когда мать села кудель прясть и с любопытством поглядела на него, ожидая рассказов, Метек обо всем ей поведал, ничего не утаивая. Встревожилась старушка, слезами залилась. Не было и для нее тайной, что милость императорская — это приказ. Ни обойти его, ни воспротивиться…
В долгие зимние вечера шила она сыну рубахи нарядные, красивой стёжкой камзол расшивала, сырки над огнем сушила — в дорогу неближнюю. Так и шло время. И оглянуться мать с сыном не успели, как на лугах снег уже начал таять. А из-под него сначала робко, по одному, а потом уже пучками, начали выглядывать подснежники. Следом за ними появились белые и лиловые крокусы, ветер ласковый и теплый подул, помог почкам расцвести на старой черешне, пташек разных петь сманил…