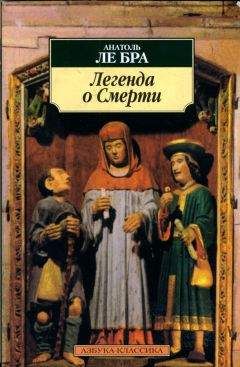— Так вот, — снова заговорил старик, — мне нужно знать, где похоронен последний умерший в семье Паскью.
— Только это? — ответила она. — Я была на похоронах. Идемте.
Она пошла между могил, надгробные плиты из серого камня теснились почти вплотную друг к другу и были достаточно хорошо видны при свете звезд. И она нашла ту, что искала:
— Смотрите! Крест совсем новый. Здесь должно стоять имя Жанны-Ивонны Паскью, жены Скерана... Меня-то родители забыли обучить грамоте.
— А я уже давно ее забыл, — бросил в ответ старик, — но посмотрим, не ошиблись ли вы.
Сказав это, он лег на землю, головой к подножию могилы. И тогда произошло ужасное, невероятное... Камень приподнялся, откинулся на сторону, словно крышка сундука, и Мари-Жоб Кергену ощутила на своем лице холодное дыхание смерти, а из-под земли донесся глухой стук, похожий на удар гроба о дно могильной ямы. Бледная от ужаса, Мари-Жоб прошептала: «Doué da bardon’ an Anaon» («Господи, помилуй души усопших!»).
— Вы спасли сразу две души, — прозвучал рядом с нею голос ее спутника. Он стоял на ногах и был совсем другим. Маленький старичок выпрямился в полный рост и казался внезапно выросшим. Посыльная наконец смогла увидеть его лицо. У него не было носа, глазницы были пусты.
— Не пугайтесь, Мари-Жоб Кергену, — сказал он. — Я — Матиас Кавеннек, о котором вы наверняка слышали от вашего отца, мы были друзьями в юности. Он пошел вместе с другими парнями острова на берег, где вы меня встретили, чтобы проводить нас — меня и Патриса Паскью — на службу в армию, — мы вытащили жребий. Это было во времена Старого Наполеона. Нас обоих отправили на войну, вместе в одном полку. В Патриса попала пуля, он был рядом со мной; вечером, в полевом лазарете, он сказал мне: «Я умираю; возьми мои деньги и постарайся, чтобы меня похоронили в месте, которое можно легко узнать. Если ты выживешь, ты сможешь перевезти мои кости на Иль-Гранд и положить их рядом с прахом моих отцов, в родную землю». Он оставил мне крупную сумму, почти двести экю. Я заплатил за его отдельную могилу, но много месяцев спустя, когда нам сказали, что война закончена и нас отпустят домой, я был так счастлив, что на радостях пренебрег поручением Патриса Паскью: забыв о своей клятве, я вернулся домой без него. Пока меня не было, мои родители покинули Иль-Гранд, они купили ферму в Локемо, и я отправился туда, к ним. Там я женился, родил детей, там я и умер пятнадцать лет тому назад. Но недолго я лежал в могиле, я должен был подняться. До тех пор пока не будет выполнен мой долг перед другом, я не имел права на покой. Я должен был отыскать Паскью. И вот пятнадцать лет я иду, передвигаясь только от заката солнца до первых петухов, а в четные ночи — пятясь назад полпути плюс половина от половины дороги, проделанной в нечетные ночи. Гроб Патриса Паскью на моих плечах весил столько же, сколько все дерево, из которого были сделаны его доски. Это их стук вы слышали иногда. Не будь вы так добры, вы и ваша лошадь, еще не один год мне пришлось бы идти к концу моего наказания. Теперь мой долг выполнен. Господь вас скоро наградит, Мари-Жоб Кергену. Возвращайтесь с миром домой и приведите все ваши дела в порядок. Это последняя поездка, которую сделали вы и ваша Можи. До скорой встречи в раю!
Он умолк, и посыльная очутилась одна среди могил. Мертвец исчез. Церковный колокол отбивал полночь. Бедная женщина почувствовала, что она совсем окоченела. Она поспешила в свою повозку и скоро подъехала к дому.
На следующее утро, когда Глаудиа Гофф пришла за своим грузом табака, она нашла Мари-Жоб в постели.
— Неужели вы заболели? — спросила Глаудиа с участием.
— Точнее сказать, иду к своему концу, — ответила Мари-Жоб Кергену. — Это из-за вас, но я достаточно пожила и ни о чем не жалею. Только сделайте одно — пришлите мне священника.
Она умерла в тот же день, помилуй ее Господи! И сразу после того, как ее положили в землю, пришлось хоронить и Можи: лошадь нашли уже совсем холодной, когда пришли за нею в ее стойло.
Старик из Турк’хаЭто было в деревне Кераннью, в Турк’хе. Глава хозяйства, пенн-ти — penn-ti, женился поздно на совсем молоденькой женщине, она родила ему семерых детей, и вдруг он неожиданно умер. На его надгробной плите было написано, что ему в момент смерти было семьдесят лет. Вот почему, когда о нем заходила речь в доме, его называли не иначе как Старик — ар-потр-коз — ar-potr-coz.
При жизни был он человек веселый, как это водится в Корнуайе. Видно, и смерть его не опечалила. Должно быть, он сумел как-то приглянуться Господу, раз Господь был так милостив, что позволил ему пройти свое «чистилище» в родной деревне, в Кераннью.
Его никогда не видели, но всегда слышали, как он смеется где-нибудь в уголке. Не было такой шутки, какую бы он не разыграл. Шутки, правда, невинные, безобидные. Особенно он любил поддразнивать Терезу, молодую служанку, поступившую в дом сразу после его смерти, к которой он проникся симпатией, прежде всего, потому, что у нее был такой же характер, как у него, — она хохотала с утра до вечера; а может быть, еще и потому, что она была очень добра и терпелива с детьми, с семью ребятишками, которых он оставил и из которых двое последних были совсем малышами.
Живым, Старик очень любил сидр. Теперь он нес свое смертное наказание, храня яблоки, которые в
Кераннью сваливали в кучу позади дома за соломенный плетень.
Знаете поговорку: «Mab е tad ео Cadio» («Меньшой — сын своего отца»)? Старик любил сидр — его «меньшие» обожали яблоки. Они все время кричали, хватая Терезу за юбки: «Тереза, достань нам яблочко!»
Тереза притворялась, что она их отталкивает, а сама прямо бежала к яблокам.
— Старик, — говорила она, смеясь, — позволь мне взять по яблочку для малышей.
Старик тоже смеялся и позволял. Для порядка он их отсчитывал:
— Одно! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть! Семь!
После седьмого он ставил точку. Но вы же понимаете: яблоки съедены и тут же требуются другие.
Тогда Тереза применяла такой способ. Она находила жердь, на конце которой была острая шпилька. И эту жердь она запускала в кучу яблок и накалывала и вытаскивала одно за другим... двадцать яблок! Старик изобретал тысячи всяких трюков, чтобы ей помешать, но все впустую, он сердился, а она знай себе веселилась.
— Я тебе это припомню, Тереза, — кричал он.
Иногда ему удавалось ухватить палку за конец.
— Эй, Старик, отпусти же, — просила Тереза, — это же для малышей.
И она тянула, тянула палку к себе за другой конец.
— Так! Так! Давай! — посмеивался Старик.
И он тянул палку с такой силой, что его дряблые и желтые щеки краснели и раздувались. Потом неожиданно он отпускал палку, и Тереза падала навзничь. А Старик и давай хохотать своим тоненьким, дрожащим голосом: «Хи! Хи! Хи!»
Шутник был Старик
Часто случалось, Тереза не могла найти коров в поле, куда она их отводила утром, или свиней в загоне, где она их оставляла.
«Ага! Опять проделки Старика», — думала служанка.
Она притворялась, что ищет, забиралась куда-нибудь повыше, чтобы видеть подальше, потом спрыгивала вниз, бежала на поле или на дорогу, крича громким голосом, с нахмуренным видом:
— Да куда подевалась эта проклятая скотина?
Это всегда приносило успех. Внезапно из зарослей дрока или из какого-нибудь кустика на поле раздавался хохоток, похожий на блеяние козы. И появлялась голова Старика с сияющим от удовольствия лицом.
— Старик, помоги мне отыскать скотину, — говорила тогда Тереза.
Старик шутил, называл ее ветреницей, никчемушной и в конце концов приводил ее туда, где были коровы или свиньи. Ему не стоило труда их найти, потому что он сам их туда заводил.
Однажды в четверг в Кераннью, как и почти везде в бретонских деревнях накануне постных дней — пятницы и субботы, пекли блины. Сковороды были поставлены на всех очагах; одна из них — на кухне — была приготовлена для главной служанки; Тереза пекла на другой, в комнате, которая называется «задняя» (ar penn-traon), обычно она служит чуланом.
Главная служанка была постарше, чем Тереза, и более опытной. Она умела очень ловко разливать тесто на сковороде и переворачивать деревянной лопаткой уже зарумянившийся блин. Все удивлялись, что Старик, большой любитель блинов во времена, когда он мог их есть, не воспользовался своим правом сидеть рядом с ней. Даже и в этом деле он сохранял свою привязанность к Терезе. Правда, угощался он на свой манер, подшучивая над девушкой, над ее неловкостью:
— Так, еще один не вышел, красавица!.. Нет, вы посмотрите, у него дырок больше, чем на штанах нищего... А этот, сошьем его из лоскутков... А ты не умеешь штопать, как я вижу, так же как не умеешь делать новый... Так, сделай иначе... Ну вот, а теперь блин будет такой же плотный и негодный, как коровий навоз. — И Старик давай смеяться до корчей: