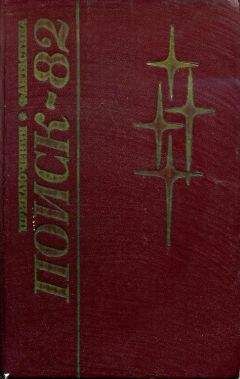Кроме того, в первых историографических сочинениях очевидны следы переработки и переосмысления языческого предания в соответствии с христианским мировоззрением и государственной идеологией раннефеодального периода. Книжникам приходилось ретушировать мифологический смысл древних обрядов, дополнительно мотивировать поступки героев, комментировать социальные принципы слабо стратифицированного общества; в их повествованиях фигурирует ряд персонажей (увечных, бедных, низко- и незаконнорожденных, занимающихся непрестижным в дружинном государстве делом), чье возвышение и получение высокого статуса князя требует специальных обоснований (Божья воля, исключительные качества, «ошибки» информаторов). «Подделка» такого пласта адаптированных к «новым» государственным и социальным реалиям мотивов легенд для раннесредневековой книжности практически невероятна.
Признание мифоэпического, фольклорного происхождения славянских преданий и структурно-морфологическое сходство их сюжетов позволяет констатировать, что перед нами единый комплекс источников[3], который может быть использован для реконструкции славянских представлений о власти, в том числе связанных с потестарным (догосударственным) периодом истории.
До сих пор политические, социальные и правовые явления эпохи миграции славян и колонизации их «новых родин» изучалась либо на основе данных археологии[4], либо с помощью лингвистики[5], а среди письменных источников ведущее положение естественно занимали сообщения византийских и западноевропейских авторов[6]. Собственно славянские, более поздние по времени создания раннеисторические сочинения привлекались в основном в связи с упомянутыми в них этнонимами[7] и описаниями обычаев славянских племён[8]. На синтезе этих данных, по преимуществу, строились обобщающие исторические реконструкции социально-политического строя древних славян и шел поиск предпосылок перехода от потестарности к государственности[9].
Сравнительно-исторический анализ легенд о первых правителях позволяет создать самостоятельную по отношению к перечисленным источникам и методикам их изучения картину ранней славянской власти.
Сюжеты и мотивы славянских преданий о происхождении власти тесно связаны с общеславянским комплексом архаичных (догосударственных) представлений о власти, характерных для начальных этапов развития аграрных обществ[10]. Образы первых князей и символика власти, описанные в этих легендах, также связаны с культами плодородия. Другими важнейшими характеристиками, объединяющими все традиции, являются коллективная власть и родовой (кровнородственный) социум.
Во всех традициях изображения древнего периода истории славян (от завершения миграции до складывания первых государств в X в.) показаны типологически близкие модели власти и сходные представления о функциях правителя. Эта власть изначальна, развивается постепенно, в несколько этапов; она эндогенна, первые вожди происходят только из «родных», туземных социумов. В легендах описаны обряды и атрибуты этой власти, аналогии которым можно найти в этнологических материалах. Главными темами в легендах являются: соревновательный пир (потлач), свадьба двух представителей правящих семей, объединение родов (синойкизм), священная, ритуальная пахота, обряд инициации детей (постриги). В преданиях «читаются» универсальные мифологемы[11]: изгнание «злого» правителя (Попеля), брак царя-пахаря и девы плодородия (Пржемысла и Либуше), чудесное умножение пищи (в польской легенде о Пясте и рассказе ПВЛ о «белгородском киселе»), брак культурных героев — брата и сестры («кузнеца» Кия и «девы реки» Лыбеди), древние охотничьи мотивы (тотемные зооморфные имена, длинные волосы и косы).
Кроме типологических совпадений, в разных традициях выявлены отдельные сюжеты, восходящие к общему источнику. В польской и чешской традиции отразились рассказы о практически идентичной цепочке прародителей племени: «Чех — Крок — его дочь» и «Лех — Крак — его дочь». Можно предполагать, что в основе этих сообщений лежит общезападнославянское (или общеславянское?) предание о предке-эпониме (или двух эпонимах: упоминание пары «Чех и Лех» сохранилось в древнерусской пословице[12]), его преемнике, родоначальнике племени Краке / Кроке («вороне»?) и мудрой дочери последнего, унаследовавшей власть. Идентичны по своему семантическому значению (и, видимо, восходят к одному прообразу) имена первого легендарного новгородского посадника Гостомысла[13] и легендарного чешского князя Гостивита; оба имени обозначают человека, «заботящегося о гостях», «хозяина гостей». Аналогию и смысловую оппозицию этой паре представляют имена двух польских князей Семовита и Семомысла (т.е. людей, «заботящихся о своей семье», «хозяев семьи»). Идентичны по семантике имен и функциям пары женских персонажей «Туга и Вуга» и «Карна и Жля», олицетворяющие практику погребальных обрядовых плачей над погибшими. Однако исследование и реконструкция возможного источника этих преданий — тема специального исследования.
Образы первых князей связаны с мирными профессиями — они занимаются землепашеством, более архаичная легенда о Кие и его братьях называет главного героя охотником. С лесом и охотой, возможно, связана семантика имен первых польских и южнославянских князей. Некоторые первоправители носят тотемные имена птиц (Крок, Крак, Будимир). Первые правители отличаются мудростью, способностью предвидеть будущее, гостеприимством, щедростью.
Все описанные в трех преданиях обряды, связанные с получением власти, характер генезиса власти, атрибуты и функции правителя входят в одну систему представлений, которую можно считать общей, архетипической для славян. Ключевой для всех преданий является пара (муж и жена) правителей, чьи способности и качества гарантируют достаток и благополучие родового коллектива, а важнейшей фигурой — «князь-пахарь».
Основным отличием образа правителя в рассматриваемых легендах от образа князя государственной эпохи является полное отсутствие военных функций и аристократического происхождения[14]. Древние князья не имеют дружин, не участвуют в войнах и военно-торговых походах, не отличаются знатностью (этот концепт в легендах вообще отсутствует). Они занимаются исключительно мирными профессиями, их деяния связаны с культурными (ремесла, знахарство), организаторскими (основание городов, учреждение культов, проведение обрядов) и редистрибутивными задачами (пиры)[15]. Отдельные элементы таких представлений сохраняются и в государственный период. Кроме того, в славянское культуре можно найти и другие параллели этим аспектам образов древних правителей. В «историческое время» наблюдалось разделение функций знаковой фигуры князя и «военного лидера» — воеводы, часто перераставшее в их конфликты[16]. Сам термин «князь» в некоторых славянских языках обозначал священника (ср. польск. ксендз)[17] Отмечу, что в русских былинах князья сами никогда не воюют и не совершают героических поступков, эта функция и сопутствующие ей качества присущи богатырям[18].
В легендах отразились архаичные и идеализированные представления славян о власти, но редкое совпадение всех источников в таких важных вопросах, как военная деятельность предводителя и его знатность, заставляет с осторожностью оценивать попытки завысить уровень развития потестарных структур славянских племен[19]. Усложнение социально-политической организации славян в ходе колонизации Центральной и Восточной Европы было скорее исключением[20], чем правилом и наблюдалось на окраинах, «пограничьях» славянского мира[21] (новгородские словене[22], северяне[23], позже древляне и вятичи, балтийские славяне[24]).
Таким образом, на основе произведенного анализа можно с уверенностью говорить о том, что в славянских преданиях о первых князьях присутствует значительная доля достоверной исторической информации о древнейшем периоде сложения основ культуры, хозяйственного быта и властных институтов славян.
Реконструкция общего архетипического образа правителя в преданиях разных славянских народов и, в не меньшей степени, выявление у них общности принципов организации власти лишний раз подтверждают прозорливую мысль А.А. Шахматова, писавшего: «... значение объединительных, центростремительных движений в жизни русского народа и его языка весьма велико. Историку языка необходимо считаться с ними также, как историку культуры и государства. Было бы сильной ошибкой преувеличивать результаты центробежных движений русских племен, ибо с самых первых моментов исторической жизни русского народа мы видим им противовес в стремлениях объединиться: стремления эти находили себе выражение в создании общего государства, подчинении общим культурным центрам»[25]. Добавлю, что эта тенденция к интеграции во многом определялась памятью об общих культурно-исторических истоках.