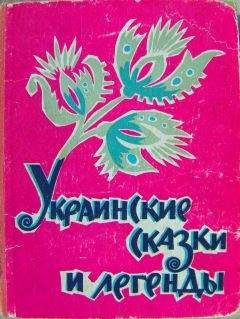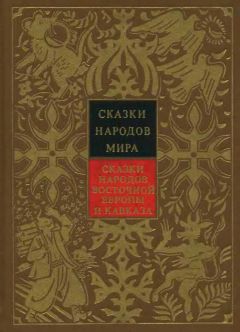КАМНИ-БОГАТЫРИ
Сказывают старые люди, что некогда, в стародавнюю старину, сошлось два богатыря, один стал по левую сторону Днепра, а другой по эту, да и кричат один другому через Днепр; один говорит:
— Уступи мне место, я поселюсь здесь со своим народом!
— Нет, — говорит другой, — я заселю этот край, а ты убирайся отсюда.
Тогда богатырь с правого берега и говорит:
— Коли так, то давай лучше силой померяемся, кто кого одолеет, того и земля будет.
— Давай, — говорит богатырь с левого берега.
Взяли они, отковырнули со скал камни равного весу, стали на горе над Днепром, один с той стороны, а этот с этой, и давай кидать. Как минул богатырь с левой стороны камень, он и упал у этого берега в воду, недалече от Стрельчей скалы. Тогда с правой стороны богатырь как кинул свой камень, он так и залетел на ту сторону, на сухой берег. Тогда богатырь с левой стороны и кричит:
— Ну, коли так, пойду я дальше, а ты заселяй землю. — И пошел богатырь дальше, а этот поселил свой народ и на этой и на той стороне. И остался на том камне, что с левой стороны, и до сей поры след как раз на том самом месте, где богатырь брался руками, — так руки и видать, и пальцы, и ладони.
Шил в давнее время в Киеве некий князь-лыцарь, и был возле Киева Змей, и каждый год посылали ему дань: молодого парубка или дивчину.
Вот подошел черед и дочке самого князя. Нечего делать: раз горожане давали, надо и ему давать. Послал князь свою дочку в дань Змею. А дочка была такая собой красивая, что и не рассказать. Вот Змей ее и полюбил. И стала она к нему подольщаться и спрашивает у него однажды:
— Есть ли, — говорит, — на свете такой человек, кто мог бы тебя одолеть?
— Есть, — говорит, — один такой в Киеве, живет над Днепром.
Как затопит он печь в хате, так дым под самые небеса и подымается; а как выйдет к Днепру кожи мочить (ведь он кожемяка), то несет не одну, а сразу двенадцать; и как намокнут они в Днепре, а я возьму да за них и уцеплюсь, вытащит, мол, он или нет? А ему все одно: как схватится, то меня заодно с ними на берег вытащит. Его одного только я и боюсь.
Вот и запало в голову княжне, думает: как бы это ей весточку домой подать да на волю к отцу выбраться? А при ней не было ни души, только один голубок. Выкормила она его еще в то счастливое время, когда жила в Киеве. Думала, думала, а потом взяла и написала отцу-батюшке: «Вот так, мол, и так, говорит. Есть у вас, батюшка, в Киеве человек, звать его Кирило, а по прозвищу Кожемяка. Упросите его через старых людей, не согласен ли будет со Змеем сразиться, не вызволит ли меня, бедную, из неволи! Просите его, милый батюшка, и словами и подарками, да чтоб не обиделся он за какое случайное слово. А я за него и за вас буду век богу молиться».
Написала так, под крылышко голубю привязала, да и выпустила в окно. Взмыл голубок под облако и прилетел домой к князю на подворье. А как раз в ту пору по двору бегали дети и увидели голубка.
— Татуся, татуся, — говорят, — видишь, голубок прилетел от сестрицы?
Возрадовался князь поначалу, а потом подумал, подумал и опечалился: «Уже, верно, проклятый ирод загубил мое дитятко».
А потом приманил к себе голубка, глядь— а под крылышком грамотка. Он за грамотку. Читает, а дочка и пишет: так, мол, и так. Вот призвал тотчас к себе всю старшину.
— Есть ли такой человек, что прозывается Кирилом Кожемякой?
— Есть, князь. Живет над Днепром.
— А как бы к нему подступиться, чтоб и не обиделся и послушался?
Вот так и сяк посоветовались, да и послали к нему самых старых людей. Подходят те к его хате, отворили потихоньку со страхом двери, да так и оробели. Смотрят — сидит на земле сам Кожемяка к ним спиной и мнет руками двенадцать кож, и только видать, как седой бородою качает. Вот один из посланцев — «кахи!»
Встрепенулся Кожемяка, а двенадцать кож только — тресь, тресь! — полопались все. Обернулся к ним, а они ему в пояс:
— Вот так, мол, и так, прислал к тебе князь с просьбицей.
А он и не смотрит, не слушает: рассердился, что двенадцать кож из-за них порвал.
Они снова его просить, давай его умолять (на колени стали). Беда — не слушает! Просили, просили, да так и пошли головы понуря.
Что тут делать? Печалится князь, печалится и вся старшина. А не послать ли нам еще молодых? Послали людей помоложе, — и те ничего не поделают. Молчит да сопит, будто не к нему и обращаются. Так разобрало его за те кожи. Потом пораздумал князь и послал к нему малых детей. Те как пришли, как начали просить, как стали на колени да как заплакали, тут уже и сам Кожемяка не вытерпел, заплакал, да и говорит:
— Ну, уж для вас я сделаю это!
И пошел к князю.
— Так давайте мне, — говорит, — двенадцать бочек смолы да двенадцать возов конопли!
Обмотался коноплей, осмолился хорошенько смолой, взял такую булаву, что, может, в ней пудов десять, да двинулся к Змею.
А Змей ему и говорит:
— Ну что, Кирило, биться пришел иль мириться?
— Да где уж мириться? Биться с тобой, с иродом окаянным!
Вот и начали они биться, так земля и гудит. Что ни разбежится Змей, то и ухватит Кирилу зубами, так кусок смолы и вырвет; что ни разбежится да ухватит, так клок конопли и вырвет. А он его здоровенной булавой как ударит, так в землю и вгонит. А Змей, как огонь, пылает, так ему жарко; и пока, сбегает к Днепру напиться да вскочит в воду, чтоб слегка поостыть, а Кожемяка уже коноплей и обмотался да смолой осмолился. Вот выскакивает из воды проклятый ирод и только разгонится навстречу Кожемяке, а тот его булавою и хвать! Что ни разгонится, а он его знай булавой — хвать да хвать, так и отдается. Бились, бились, аж пыль поднялась, так искры и брызжут. Такой грохот пошел, словно у кузнеца в кузнице весной, когда каждому нужен лемех для пахоты; тут и сам кузнец бьет и хлопцы бьют, а мех только шипит, без устали сопит, а искры из горна да от железа отскакивают и шипят, а кузница так вся ходуном и ходит: слышна кузнецкая работа далеко по селу, — такой же вот грохот и стук поднял и Кирило со Змеем, так крепко и часто дубасил его железною булавой по голове. Словно из горна пышет синий огонь, так и у Змея пышет пламя из пасти, из глаз, из ушей. Разогрел Кирило Змея получше, чем кузнец лемех в горне, — так и фыркает, аж захлебывается окаянный, а под ним земля только стонет.
А люди в колокола зазвонили, молебны служат, а на горах народ стоит, словно неживой, сцепив руки: ждет, что оно будет! А тут Змеище — бубух, так земля и затряслась!
Народ так и всплеснул руками: «Слава тебе господи!»
Вот Кирило, убив Змея, освободил княжну и отдал ее князю. И не знал князь уж, как его и отблагодарить и наградить.
Вот с того времени и стало называться то урочище, где он жил, Кожемяками.
Как было лихолетье, пришел чужеземец-татарин, и вот уже в Вышгород бьет, а там и под Киев подступает. А жил там лы-царь такой, Михайлик. Как взошел он на башню да пустил из лука стрелу, и попала стрела татарину прямо в миску. Сел тот у столика было обедать и только, благословясь, есть собрался, а тут стрела так в мясо и вонзилась.
— Э! — говорит, — есть здесь лыцарь могучий! Выдайте его мне, — говорит киевлянам, — выдайте мне этого Михайлика, и я тогда отступлю!
Вот киевляне, которые побогаче, и «шу-шу, шу-шу», между собою советуются:
— Ну что ж, выдадим…
А Михайлик и говорит:
— Коли вы меня выдадите, то в последний раз видеть вам Золотые Ворота! — Вскочил на коня, обернулся к ним и молвил:
Ой, кияне, кияне, панове громада!
Поганая ваша рада!
Коли б вы Михайлика не отдавали,
Пока солнце светит, вороги бы Киева не взяли!
И поднял он на копье Ворота, словно на вилы сноп спелого жита, да и поехал в Царьград через татарское войско, а татары его не видят. Вот как снял он Золотые Ворота, тут и татары в Киев ввалились и двинулись, все громя и топча.
А лыцарь Михайлик живет и до сей поры в Царьграде: стоит перед ним стаканчик воды и лежит просвирка, больше ничего он п не ест. А Золотые Ворота стоят в Царьграде. Но будет, говорят, когда-нибудь время, вернется Михайлик в Киев и поставит Ворота на свое место.
И когда кто из людей проходит мимо и скажет:
— О Золотые, Золотые Ворота! Стоять вам опять, где стояли вы прежде! — то золото так и засияет. А не скажет так или подумает: «Нет, уже не бывать вам в Киеве!» — то золото враз и померкнет.
Днепр и Десна — это брат и сестра, оба они дети Лимана. Вот состарился Лиман и ослеп. А были у Днепра руки в шерсти, а у Десны — нет; надела она тогда шерстяные рукавички, да и пошла просить у отца благословения. Прикоснулся Лиман к рукам Десны, а они в шерсти, вот и благословил он ее. И пошла тогда Десна первая и начала громоздить по пути высокие горы да скалы, чтобы не было брату проходу.