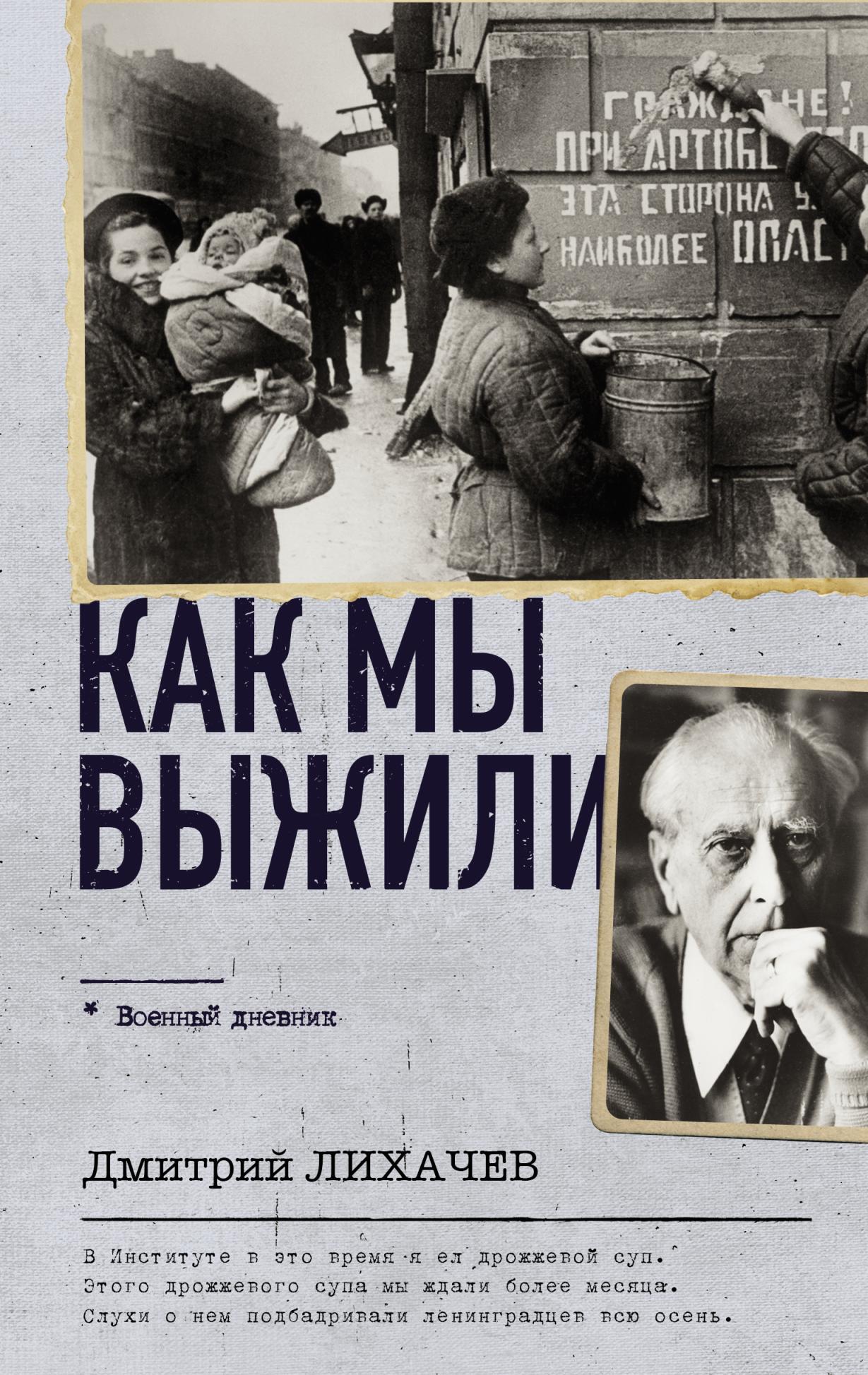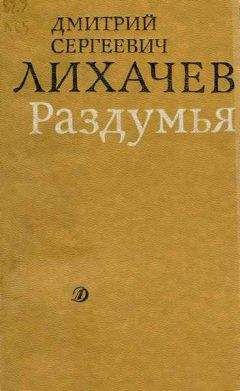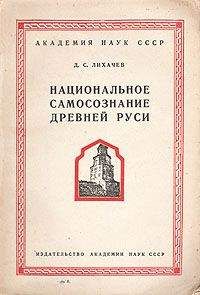не было несущественных, случайных и «временных» деталей [54].
Начинатель многих литературных предприятий XVI в. митрополит Макарий сам «бе иконному писанию навычен». Вот почему то обстоятельство, что отвергнутое Стоглавым собором 1551 г. «самосмышление» было принято затем собором 1553 г., во главе которого стоял Макарий, приобретает особое значение для литературы.
Спор не закончился. Единомышленники Висковатого, выступавшего на соборе 1553 г. против новшеств в иконописи, продолжали обвинять Макария, что он допустил «самосмышление» в создании икон и лишил иконопись ее прежней «историчности».
В конечном счете вымысел был допущен в иконопись, но вымысел в весьма ограниченной форме – в форме аллегорических и символических сюжетов.
«Самосмышление» сказалось и в литературе. В повествование вводятся вымышленные речи героев, действие домысливается с точки зрения общих норм христианской морали и феодального поведения [55]. Домысливается назидательное истолкование событий. И т. д. Повествовательное начало развивается в сильнейшей степени.
Наиболее отчетливо биографизм XVI в. сказался в «Степенной книге». Она представляет собой пышную портретную галерею деятелей русской истории, но портреты эти вполне условны: они официальны и церемониальны, утомительно однообразны своим обилием, несложными приемами идеализации.
Автор «Степенной книги» открыто говорит вначале о своих задачах идеализации русских исторических лиц. Степени его книги, как утверждает автор, золотые, они составляют лестницу, ведущую на небо. Утверждаются же эти степени «многообразными подвигами» в благочестии просиявших скипетродержателей [56]. Книга состоит из «дивных сказаний», «чюдных повестей». Она рассказывает «о свято поживших боговенчанных» царях и великих князьях, «иже в Рустей земли богоугодно владальствовавших», и об их митрополитах. За «житием и похвалой» следует просто «похвала», «похвала вкратце», «молитва» за усопшего и усопшему (в зависимости от того, канонизирован он или нет) и «паки похвала». Названия отдельных «повестей» и «сказаний» ясно раскрывают их идеализирующий характер: «О благоденствии и о прехвальном благонравии великого князя Димитрия Ивановича», «О благородном и царскоименитом великом князе Василии Димитриевиче» и т. д.
Идеализируются не только отдельные деятели русской истории, но вся Русская земля, весь ход ее истории, весь род государей в целом, ее державные города – Киев, Новгород, Псков, Владимир, Тверь, Москва. Идеализируются самые события, ход которых закругляется, сжимается, лишается излишних деталей, разбивается на законченные в повествовательном отношении сюжеты, обставляется нравоучениями, как бы вскрывающими их внутренний, назидательный смысл, и сопровождается восклицаниями автора, составляющего в своем единственном лице как бы своеобразный античный хор: «Оле непостижимым судьбам твоим, Христе Боже нашь, и слава несказанней твоей благости!»; «О беззаконнии! Чьто приобретосте, таково бесчеловечьное сотворше господоубийство?».
Но восклицания и восторги, сколь многочисленны они ни были бы, – официальны, холодны и не внушают прежнего доверия. В них нет уже той экспрессии, которая отличала творения Епифания Премудрого или которая была заложена в «Русском Хронографе». Этот восторг – только пышный и официальный этикет, разочаровывающий своим однообразием. «Сий Владимир – добляя благочестия ветвь!» – восклицает автор «Степенной книги» о Владимире I Святославиче и затем семь раз холодно повторяет свое восклицание: «Сий Владимир – апостольский ревнитель! Сий Владимир – церковное утвержение! Сий Владимир – идольский раздрушитель! Сий Владимир – благоверия проповедник! Сий Владимир – царская похвала! Вся того правоверная исправления – дивна! Того вся благочестивая проповедания – красна!» Автор «Степенной книги» рассчитывал здесь на дисциплинированного читателя, готового всерьез согласиться с этими церемониальными излишествами.
Изложение «Степенной книги» густо насыщено различного рода эпитетами и краткими характеристиками. В них отмечаются внутренние побуждения, внутренние качества действующих лиц, но «психологизм» здесь только этикетный – не более. Княгиня Ольга названа «святой», «блаженной», «равноапостольной» и «в премудрости пресловущей». Она «вдовствена и целомудрена, премудрости и разума исполнена, и всюду кипяща духовным благовонием». Она «дивная в девицах», имеет «целомудреный нрав», «износит хитростные глаголы». Специальная статья носит заглавие «О добродетелях блаженные Ольги». Ей посвящены две обширнейшие похвалы. Все это демонстрирует трудолюбивые попытки автора создать внушительный образ Ольги, дать ей характеристику, обессмертить ее «памяти достойный» образ. Однако количество здесь явно преобладает над качеством.
Этикет подчиняет себе все попытки описать внутренние переживания. Действующие лица ведут себя так, как им полагается в том или ином случае. «Самосмышление» повествователя никогда не выходит за границы дозволенного и рекомендованного тому высокопоставленному лицу, о котором он рассказывает. Во многих случаях автор от себя добавляет не только упоминания тех чувств, с которыми был совершен его героем тот или иной поступок, но и измышляет самые поступки, если они требовались понятиями XVI в. о приличии. Сарацины крестятся, и Владимир Святой их «обильным дарованием удоволи», – совсем так, как это делали русские государи с татарами в XVI в. Философ возвращается от сарацин, и Владимир, митрополит, епископы и все люди философа «хвалами ублажаху и многу честь воздаяху ему». По смерти митрополита Владимир скорбит, его утешают, и он «едва увещаваем бываше». С удивительной находчивостью автор «Степенной книги» подыскивает своим героям приличествующие им чувства даже в положениях, весьма для них затруднительных. Когда князя Всеволода Псковского новгородцы насильственно изгоняют из Новгорода, сопровождая свое изгнание серьезнейшими обвинениями, Всеволод не спешит, он проявляет полную кротость, произносит длинные нравоучения, обращая их к взбунтовавшимся новгородцам, и сравнивает себя в этих нравоучениях с самим Христом.
Коллективные выражения чувств народом также преисполнены той же этикетной выдержанности (кроме, конечно, тех случаев, когда народ восстает). В случае победы люди воздают «велие хваление победителю Богу и Пречистей Богородици». Когда князь посылает епископов по городам – «и радовахуся людие, и сияше в них православие». Когда князь умирает, – люди его скорбят; от вопля их не бывает слышно церковного пения и «аще кто тогда и каменосердечен, и той слезы изливаше», многие же «бьяхуся о земьлю и инии о мост градцкий».
Даже бездушная природа подчиняется автором «Степенной книги» государственному параду. Крещение печенежского князя при Владимире I Святославиче сопровождается «умножением всяких плодов» и тишиной. Когда хоронили в Чернигове митрополита Константина, то всюду по Руси «солнце помрачися и буря тако зело велика бысть, яко и земли трястися», однако в самом Чернигове «во всех тех триех дьнех солнцю светло сияющу. Егда же бысть погребено священное тело митрополита Констянтина, и тогда бысть тишина повсюду».
Здесь резкое различие с тем «панпсихологизмом», который мы видели в «Русском Хронографе». «Психологизм» автора «Степенной книги» убеждает так же мало, как улыбка на устах придворного. Перед нами как бы применение к изложению истории всех тех церемониальных руководств, которые с таким усердием составлялись в XVI в. («чин венчания», «разрядные книги» и др.).
Все действующие лица «Степенной книги» строго разделены на положительных и отрицательных. Они никогда не смешиваются, и для того, чтобы это смешение вообще не было возможно, они в изобилии снабжаются оценочными эпитетами. Положительные: «царскоименитый самодержец»,