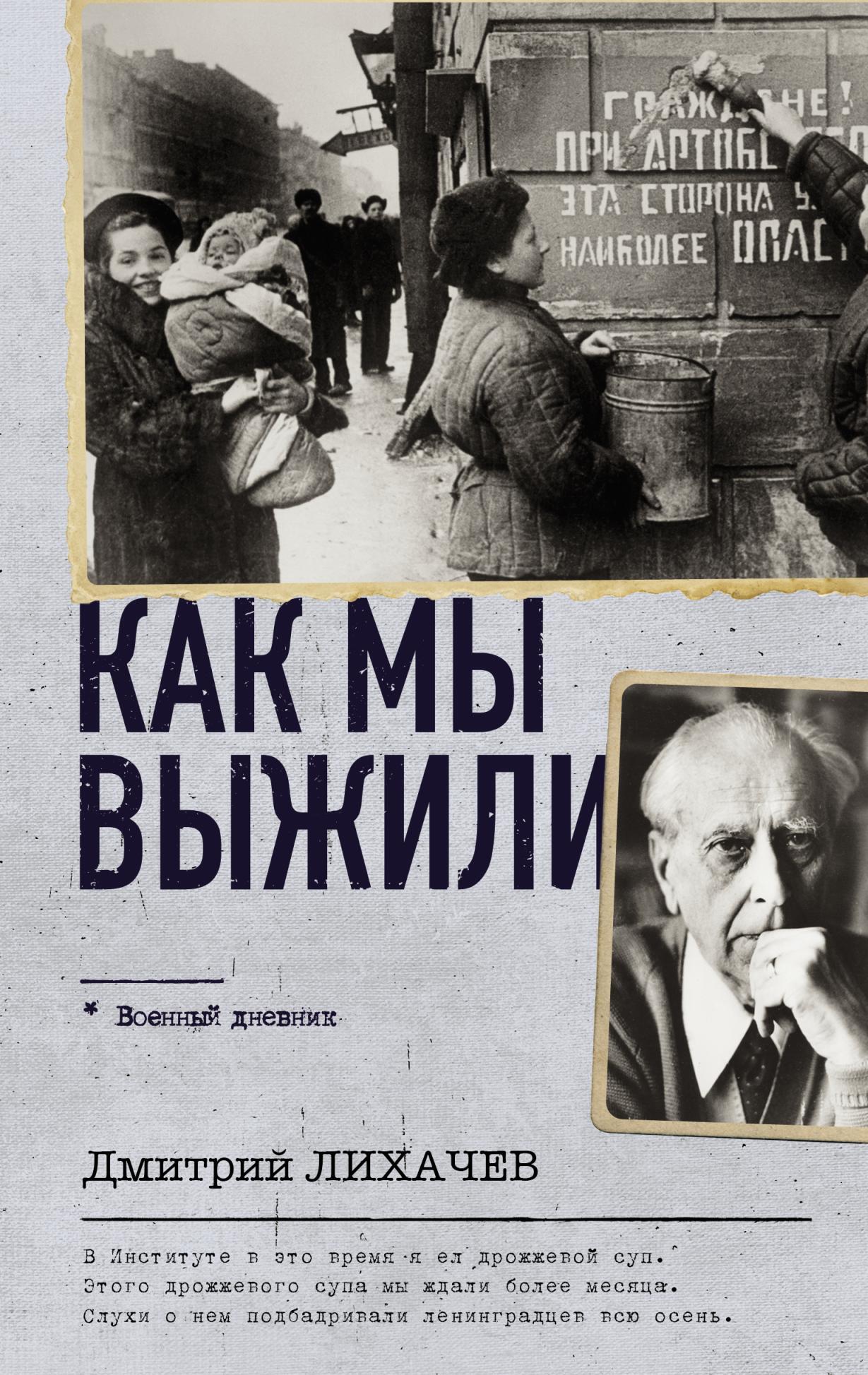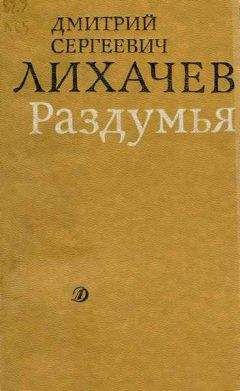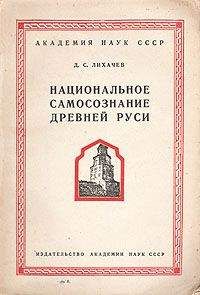литературе – это не только литературное явление, но явление и внелитературное. Вопрос о жанре усложняется фактом определенного употребления литературных произведений в церковной, политической жизни и в быту.
Житие святого имеет не только литературное назначение, оно входит в церковные службы, в монастырский обиход и поэтому не может меняться. Внутри житийного жанра существуют жанровые разновидности – минейные жития, проложные, патеричные и др. Все они также вполне определенны и, связанные церковным обиходом, неизменны.
Летопись – также явление не только литературное, художественное. Летопись – это документ исторический и юридический. Она также имеет определенное общественное и политическое внелитературное употребление. То же можно сказать и о таких жанрах, как послания, поучения, беседы, «хождения» и т. д. Отсюда ясно, что литература своими жанровыми разветвлениями входит в самую толщу общественной, деловой, церковной жизни. Каждый жанр имеет свою специфическую сферу распространения и иногда мало связан с другими жанрами.
Новые явления в области стиля охватывают поэтому не всю литературу сразу, а первоначально лишь отдельные жанры. Если общественные идеи сказываются во всей литературе одновременно, то изменение стиля проявляется главным образом внутри отдельных жанров. Так, например, второе югославянское влияние в стилистическом строе литературных произведений XIV–XV вв. сказалось по преимуществу в житийной литературе и в гораздо меньшей степени в летописи.
Вот почему в литературе Древней Руси мы можем говорить о житийном стиле, хронографическом стиле, летописном стиле и т. д., тогда как применительно к литературе XIX в. сказать «драматургический стиль», «стиль романов», «стиль повестей» – нелепость.
Движение литературы вперед постоянно перекрещивается внутрижанровыми различиями и изменением текста памятника внутри жанра.
Текст каждого отдельного древнерусского памятника крайне неустойчив и постоянно меняется в процессе переписки. В этих изменениях текста памятника, помимо его изменения в связи с общей эволюцией литературных вкусов и взглядов, можно наблюдать один и тот же процесс смены нелитературных явлений литературными, некнижных – книжными, нарастания устойчивых жанровых признаков, и этот процесс постепенного развития «литературности» в какой-то мере стирает различия эпох, вносит в судьбу текста каждого отдельного произведения однонаправленные изменения, сбивавшие перспективу общего развития литературы в целом. Явление это сложное и чрезвычайно характерное для древнерусской литературы. Остановлюсь на нем подробнее.
Художественная литература Древней Руси развивается на фоне нелитературных явлений, на фоне деловой письменности, причем литература то сближается с этой деловой и просто бытовой письменностью, то отталкивается от нее.
В ряде работ последних лет подчеркивалось обогащение литературы, идущее от деловой письменности, появление новых жанров в литературе под влиянием форм деловых документов, нелитературных произведений (духовных, челобитных, статейных списков, различного рода посланий, даже азбук, лечебников, росписей о приданом и т. д.) [86]. Но замечалось и другое: наряду с процессом интеграции литературы и деловой письменности, шел процесс постоянной дифференциации – процесс, не в меньшей мере обогащавший литературу. Литература не только сближалась с деловыми и бытовыми формами письменности, но и отталкивалась от них, стремилась возвыситься над всякой обыденщиной, стремилась к литературной выспренности, и это также увеличивало богатство форм, богатство языка, богатство образов. Сближение и расхождение противостояли друг другу, но оба были полезны для литературы. Постоянная соотнесенность литературных и нелитературных явлений увеличивала напряженность литературного творчества, ускоряла развитие, облегчала создание новых литературных форм, то отталкивавшихся от нелитературных явлений, то обращавшихся к ним.
Особенно интересно проследить борьбу обеих тенденций (к дифференциации и интеграции с деловой письменностью) в пределах истории текста одного произведения.
Характерные явления могут быть отмечены в житийной литературе. Жанр житий, как уже только что отмечалось, далеко не однороден. Особый род житийной литературы представляют документальные записки, составлявшиеся как память о святом, – «материалы» для его биографии. Эти записки не претендовали на литературность. Их основная функция – сохранить свидетельства о святом, факты его жизни, его посмертные чудеса и т. д. Впоследствии эти записки перерабатывались, становились все более и более литературными – «удобренными» и риторичными.
Такова, например, записка Иннокентия о последних восьми днях жизни Пафнутия Боровского [87], или житие Кассиана Босого [88], или первоначальная редакция жития Зосимы Соловецкого [89].
Записка Иннокентия о смерти Пафнутия Боровского – это своеобразное литературное «чудо» XV в. Иннокентий писал ее в 1477 или 1478 г. Он стремился к полной правдивости, записывал по возможности все, что знал о Пафнутии, с буквальной точностью передавая иные из его слов. В результате в ней не только тщательно переданы все отношения Пафнутия внутри монастыря, а отчасти и его отношения с немонастырскими лицами, но очень точно обрисован и самый характер Пафнутия. Следовательно, в этой записке налицо такие явления литературного ряда, которые осознанно вступают в литературу значительно позднее. Перед нами как бы бессознательный, стихийный средневековый натурализм. Раньше, чем характер человека был открыт в литературе, здесь перед нами выступает вполне четко обрисованная индивидуальность: волевой, очень решительный человек, необыкновенно сильный и властный, старчески раздражительный и упрямый.
Записка Иннокентия написана с потрясающей для своего времени правдивостью. Иннокентий сам пишет: «…не буди мне лгати на преподобного, понеже и сведетелие суть неложнии». По-видимому, непосредственные и непретенциозные рассказы послухов и свидетелей во все времена отличались чертами правдивости, в которых не следует усматривать особой литературной позиции этих свидетелей и послухов, особого стиля или литературного направления. Это не реалистичность литературы, а реальность самой жизни, как бы перенесенная в литературу, это стихийный натурализм документа, точной записи происходящего.
В пределах XV в. эти записки, как и самые события, перерабатываются в схемы, далекие от реализма. Записка Иннокентия была переработана Вассианом в житие Пафнутия.
То же самое можно проследить и на судьбе жития Зосимы. Первоначальная редакция жития Зосимы представляла собой именно такого рода записку – памятные записи, воспоминания, продиктованные неграмотным старцем Германом клирикам Соловецкого монастыря. Эту первоначальную редакцию жития Герман «простою речию сказоваше клирикам, а они клирицы тако писаша, не украшая писания словесы». Об этом говорит Досифей в послесловии к житию Зосимы («О сотворении жития»), сам записывавший от Германа сведения о Зосиме, а потом составивший по поручению новгородского архиепископа Геннадия его второе житие. Это второе житие, написанное также еще не украшенными «словесами», Досифей передал в Ферапонтов монастырь бывшему митрополиту Спиридону, который и «удобрил» его. Характерно, что впоследствии Максим Грек счел и эту переделку жития Зосимы недостаточно литературной.
Итак, некнижные редакции житий, записки о них свидетелей сменяются книжными редакциями житий. Достоверных случаев обратного процесса мне не известно.
В. О. Ключевский предупреждал от слишком прямолинейного понимания этого постепенного движения житийного произведения к литературности. Он указывал, например, что биограф Варлаама Важского предпринял написание его жития, когда в монастыре и в окрестном населении его считали «аки проста людина, а не единаго от святых»