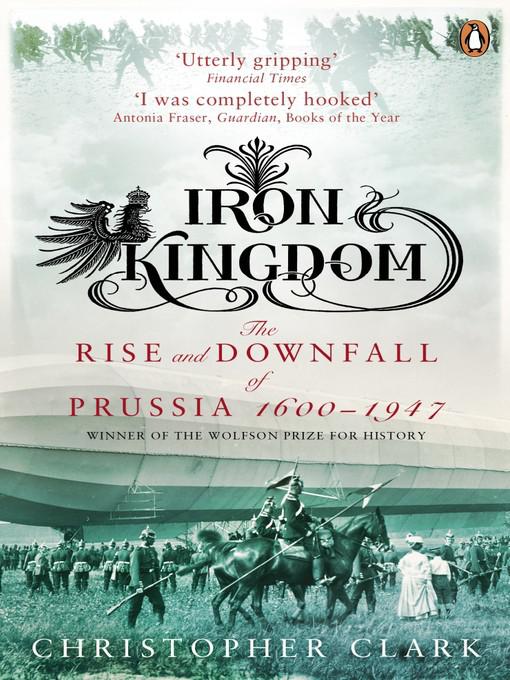вернулось к вопросу о реформе земельного налога в 1817 и 1820 годах, но обещанная реформа так и не была реализована.63
Возможно, самым большим разочарованием стала неспособность реформаторов создать орган общепрусского представительства королевства. Финансовый эдикт Харденберга от 27 октября 1810 г. объявил, что король намерен создать "соответствующим образом сформированное представительство как в провинциях, так и во всем [королевстве], к советам которого мы с радостью прибегнем".64 Под давлением своих министров король подтвердил это обещание в Ордонансе о будущем народном представительстве, опубликованном 22 мая 1815 года. В ордонансе вновь говорилось о том, что правительство намерено создать "провинциальные владения" (Provinzialstände) и сформировать из них "территориальное представительство" (Landes-Representation), резиденция которого будет находиться в Берлине. Однако национальный парламент так и не был создан. Вместо этого пруссакам пришлось довольствоваться провинциальными советами, созданными после смерти Харденберга на основании Общего закона, опубликованного 5 июня 1823 года. Это были не те надежные современные представительные органы, о которых мечтали самые радикальные реформаторы. Они избирались и организовывались по корпоративному принципу, а сфера их компетенции была очень узкой.
Один из способов подчеркнуть специфику прусских событий - вписать их в более широкий контекст реформаторской деятельности в немецких государствах в наполеоновскую эпоху. Баден, Вюртемберг и Бавария пережили в эти годы период усиленной бюрократической реформы, однако результатом этого стала значительно более масштабная конституционная реформа: все три государства получили конституции, территориальные выборы и парламенты, согласие которых было необходимо для принятия законов. На этом фоне неокорпоративные провинциальные советы, созданные в Пруссии после 1823 года, выглядят совсем не впечатляюще. С другой стороны, пруссаки были гораздо более радикальны и последовательны в своей модернизации экономики. В то время как реформаторы из Мюнхена и Штутгарта оставались приверженцами протекционистских механизмов меркантилизма старого режима, пруссаки стремились к дерегулированию - торговли, производства, рынка труда, внутренней торговли - красноречивое свидетельство культурного и геоэкономического влияния относительной близости Пруссии к рынкам индустриализирующейся Британии. Баден, Вюртемберг и Бавария начали реформы сопоставимого масштаба только в 1862, 1862 и 1868 годах соответственно. Импульс прусских экономических реформ сохранялся еще долго после 1815 года и перешел в великие таможенные союзы послевоенной эпохи. Таким образом, Пруссия вышла из наполеоновской эпохи с менее "современной" конституционной системой, чем три южных государства, но с более "современной" политической экономикой.65
То, как мы оцениваем достижения реформаторов, зависит от того, делаем ли мы акцент на том, что было достигнуто, или же обращаем внимание на все еще не изгладившееся наследие прошлого. Можно обратить внимание на то, как владельцы поместий выиграли от компенсаций, введенных Харденбергом в результате различных изменений, внесенных в эдикт Штайна об освобождении. В качестве альтернативы можно указать на численность и процветание мелкого и среднего крестьянского класса, возникшего в результате раздела помещичьих владений.66 Либеральная гумбольдтианская педагогика прусских начальных школ была размыта после 1819 года, однако прусская школьная система получила всемирное признание за гуманность ее этики и качество ее продукции. Фридрих-Вильгельмский университет с его мощной институциональной приверженностью свободе исследований стал образцом, которым восхищались во всей Европе и которому широко подражали в Соединенных Штатах, где предписания Гумбольдта помогли утвердить идею современной академии.67 Совершенно правомерно подчеркнуть ограниченность возможностей, предлагавшихся в Эдикте об эмансипации евреев 1812 года, но важно также признать его центральное место в истории еврейской эмансипации в Германии XIX века.68 Можно сетовать на то, что реформаторам не удалось покончить с родовыми судами в сельской местности, а можно сосредоточиться на тех общественных силах, которые превратили родовые суды в правовые инструменты государства в течение десятилетия после 1815 года.69
В других отношениях реформаторы также поддержали и усилили импульс перемен, который оказался необратимым после 1815 года. Государственный совет (Staatsrat), созданный в 1817 году, возможно, и не обладал той полнотой власти, которую когда-то предполагал для него Штейн, но он стал играть решающую роль в разработке законов. Министериализация правительства на практике, если не в теории, привела к ограничению независимости монарха и усилению власти министерских бюрократий.70 После 1815 года министры стали гораздо более авторитетными фигурами, чем в 1780-х и 1790-х годах. Провинциальные собрания, несмотря на свои ограничения, в конечном итоге стали важными платформами для политической оппозиции.
Ни один указ не иллюстрирует долгосрочные последствия реформ лучше, чем Закон о государственной задолженности от 17 января 1820 года, одно из последних и самых важных законодательных достижений Харденберга. Текст закона начинался с заявления о том, что текущий государственный долг Пруссии (чуть более 180 миллионов талеров) должен рассматриваться как "закрытый [счет] на все времена", и далее объявлялось, что если в будущем государство будет вынуждено привлечь новый заем, то это может произойти только при "участии и совместном поручительстве будущего национального собрания". С помощью этого закона Харденберг заложил конституционную бомбу замедленного действия в ткань прусского государства. Она будет тихо тикать до 1847 года, когда непредвиденные финансовые требования наступающей эпохи железных дорог заставят правительство созвать Объединенный сейм в Берлине, открыв дверь для революции.
Реформы были прежде всего актами коммуникации. Пропагандистский, возвышенный тон эдиктов был чем-то новым; в частности, Октябрьский эдикт был выдающимся образцом плебисцитарной риторики. Прусские правительства никогда прежде не обращались к общественности подобным образом. Самой новаторской фигурой в этой области был Харденберг, который принял прагматичное, но уважительное отношение к общественному мнению как фактору успеха правительственных инициатив. Во время своего служения в Ансбахе и Байройте он делал все возможное, чтобы удовлетворить потребности безопасности, не подрывая "свободу мыслить и публично выражать свое мнение". Его знаменитый Рижский меморандум 1807 года подчеркивал ценность отношений сотрудничества, а не антагонизма между государством и общественным мнением, и утверждал, что правительство не должно уклоняться от "завоевания мнения" с помощью "хороших писателей". Именно канцлер Харденберг в 1810-11 годах стал пионером регулярной публикации новых законов с аннотациями, утверждая, что такой отход от секретной практики прежних правительств укрепит доверие к администрации. Особенно новаторским было его привлечение внештатных писателей и редакторов в качестве пропагандистов на службе государства.71
Одной из малоизвестных, но весьма символичных инициатив, в которой участвовал Харденберг, была реформа старого канцелярского стиля в официальных сообщениях. Впервые этот вопрос был поднят в марте 1800 года, когда было предложено убрать из заголовков правительственных документов длинное длинное nomine regis, начинающееся со слов "Мы, Фридрих Вильгельм III" и перечисляющее все титулы короля в порядке убывания их значимости. Когда 7 апреля 1800 года этот вопрос обсуждался в государственном министерстве, практически все министры выступили против, мотивируя это тем, что удаление полного титула снизит авторитет высказываний, исходящих от правительства. Однако на следующий день Харденберг представил отдельное решение, в котором выражал свою