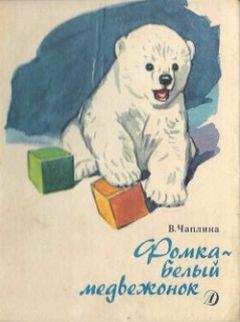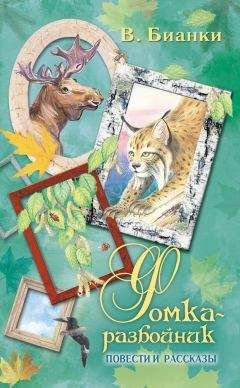повытчики и копиисты — конторское семя; доменщики в деревянной обувке, в полотняных рубахах, стоящих колом от обильного пота и пест-
рящих черно-рыжими следами огненных брызг. Шли мрачные горновые, касаясь друг друга чекменями, и отдельной кучкой стояли углежоги — куренные люди, сразу заметные в толпе по особенной ветхости своей ло- поти. И крестьяне из окрестных деревень тоже были здесь. Здоровенные олухи из заводского училища гуртом бежали со стороны Выйского заводу, весело переругиваясь и бросая друг в дружку сухими конскими яблоками. На них смотрели не осуждающе, а с доброй и снисходительной улыбкой, словно баловство это, которое непременно осудили бы в другой день, сегодня было позволено и лишь подчеркивало исключительность события. Даже странным казалось, что при таком праздничном многолюдстве безмолвствуют церковные колокола.
Сигов, окруженный служителями, стоял у здания конторы и с нескрываемой гордостью взирал на рогатых тирольских пилигримов, призванных обновить местную молочную породу. «Вот бы Николаю Никитичу, — думал Сигов, — полюбоваться таким зрелищем!» При этом он перекатывал во рту большой засахаренный орех, любимое свое лакомство. Не будучи аболиционистом, Сигов сахар охотно потреблял, и в немалых количествах. Когда сахарная оболочка растаяла, Сигов осторожно раскусил ядрышко и с наслаждением, усиленным расчетливой медлительностью, ощутил, как внезапно погорячело во рту от превратившейся в кашицу ореховой сердцевины.
В толпе неподалеку он приметил Дамеса, с удовлетворением поймал на себе его робкий, виноватый взгляд. Сигов отлично знал, что ни в каком Екатеринбурге тот не бывал. И разговор, состоявшийся в конторе, был им заведен с единственной целью — уязвить гордого копииста, обременить его страхом и сознанием вины, измучить пустыми догадками и внушить, наконец, что в одном лишь Сигове отыщутся для него прибежище и защита. А потом можно будет поговорить с ним и про тот вечер, когда капли дождя стучали у него над головой в крышу мосцепановского дома.
Но для всего этого потребно было время.
Служители обсуждали достоинства тирольских коров, которые на первый взгляд не шибко отличались от своих тагильских сородичей. Рога у последних даже красивее были. Правда, как утверждал один приказчик,
этот недостаток легко поддавался исправлению. Нужно было лишь облепить рога горячим тестом и, размягчив их таким образом, придать им более совершенные очертания. Одни в этот способ сразу горячо уверовали. Другие засомневались. А кто-то объяснил ни к селу ни к городу:
— Бодливой корове бог рог не дает!
Все посмотрели на говорившего с недоумением. Одному Сигову эти слова внятны показались. Он как раз думал о Мосцепанове, и такая присказка очень пришлась кстати к его размышлениям. «Пусть посмотрит,— думал Сигов, — пусть посмотрит этот бездельник, этот ябедник чертов! Пусть посмотрит, на что способно ненавидимое им начальство!» Тут взгляд его задержался на замыкавшей стадо белой корове. Корова была невелика, на вид приятна, и Сигов, поразмыслив немного, решил именно ее приставить к зазорным младенцам.
Евлампий Максимович с дядькой Еремеем тоже стояли у «казенного двора», куда подходили тирольские быки и коровы.
— Чтой-то не больно баски коровенки-то, — говорили в толпе.
— Притомились, поди.
— Притомишься! Их, почитай, как каторжных гнали, с самой Неметчины..
— И не доили как след. Рази ж мужики подоют как след? — печаловались бабы.
— Ну, бабоньки, поглядим, что у них за молочко такое... Уж не сливками ли доются!
Евлампия Максимовича, как и прочих мужиков, больше быки занимали.
Заметив поблизости Дамеса, Евлампий Максимович подошел к нему и проговорил, указуя тростью на переднего пегого красавца:
— Вот бугай, а? Способный, видать!
Дамес как-то странно огляделся вокруг и спросил:
— К чему способный?
— Как к чему? — растерялся Евлампий Максимович.
— К чему, говорю, способный?
— К чему предназначен, к тому и способный... Не блины печь, конечно!
— Не понимаю, — сказал Дамес, — что это за намеки такие.
И бочком, бочком отодвинулся в сторону, ушел, растворился в толпе.
В эту минуту как раз напротив Евлампия Максимовича остановилась замыкавшая шествие белая корова. Она воздела голову к небесам, огласив неласковый воздух чужбины долгим и тягостным мычанием. Кто знает, что припомнилось ей в эту минуту! Может быть, девичьи пальцы, ласково тискавшие вечерами ее вымя. Может быть, сочные луга Тироля и переливчатые напевы тамошных пастухов. Не знаю. Да и никто, пожалуй, не знает. Но была в ее пронзительном мычании та всем понятная тоска одинокого существа, которая всякого не лишенного чувствительности человека приводит к той же мысли, что и созерцание геркуланских ваз, — к мысли о несовершенстве мира.
Евлампий Максимович не был лишен чувствительности и даже, если помнит читатель, требовал ее от неразумного щегла Фомки. Но при всем том мир, лежавший за пределами Нижнетагильских заводов, он полагал устроенным до чрезвычайности разумно. Будто на поражающем совершенством своих форм торсе атлета образовалась чудовищная язва, причиною чего был не разлад во внутренних органах, а единственно досадная случайность.
И потому, слушая жалобу белой тирольской коровы, Евлампий Максимович не растекся расслабленной мыслью по несовершенству мироздания вообще, как делали это, созерцая геркуланские вазы, гости Николая Никитича. Он крепко стиснул пальцами набалдашник трости и ощутил, как всплывает в памяти, заливает уши бесслезный вопль младенцев из воспитательного дома. Вопль был резок, отчетлив, и тишина, последовавшая за ним, наступила, казалось, оттого, что у младенцев просто сил не достало дольше кричать. Затем эту тишину развалил хлопок бича, от которого белая корова, споткнувшись, припустила догонять своих товарок. Бич еще раз хлопнул ей вдогонку — для острастки, и Евлампию Максимовичу привиделся иной бич, зажатый в иной руке. А именно в твердой руке уставщика Веньки Матвеева. Поплыла перед глазами окровавленная спина того мужика, что после приносил гуся в мешке. И тут же чей-то гусь, невесть откуда взявшийся, побежал, гогоча и переваливаясь, мимо, к соседним воротам. Евлампий Максимович не сдержался — пнул его с такой злобой, будто это не гусь, а сам Сигов путался у него под ногами. Гусь взгоготнул возмущенно, а Евлампий Максимович прошептал с бессильным бешенством:
— У, стервец!
И сразу из ворот вышел тот самый мужик, подхватил гуся в охапку и сказал укорительно:
— Зачем же вы, ваше благородие, птицу забижаете? Вот взяли бы тогда и пинали, сколь влезет... А так что же!
От такого странного совпадения мурашки пробежали по коже у Евлампия Максимовича, и душа наполнилась нехорошими предчувствиями.
В этот день Сигов вернулся домой поздно. Впервые за последние недели он с аппетитом съел собранный бабкой Федосьей ужин и прошел в спальню. Там было темно,