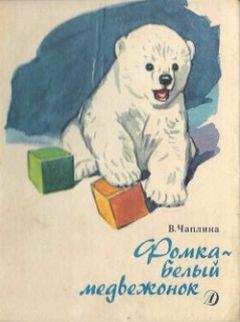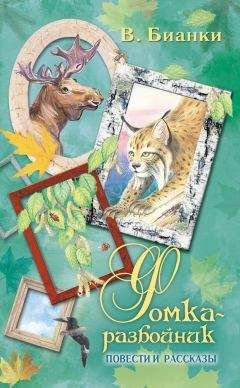свечи не горели, но по еще стоявшему в воздухе запаху теплого воска слышно было, что их задули недавно. Жена тихо лежала в постели. Очертаний ее тела Сигов разглядеть не мог, однако он и без того знал, что она лежит в обычной деревянной позе, вытянувшись на спине во весь свой изрядный рост. Татьяна Фаддеевна Бублейникова так конечно же в постели не лежала. Этого Сигов не мог не признать. Но у него зато перед Мосцепановым другие имелись преимущества.
Пять домов, к примеру, из которых один — каменный.
— Чего не спишь? — спросил он жену.
Та ответила:
— Думаю.
— И об чем думаешь?
— Корова нам нужна. Я сегодня присмотрела одну. Шибко она мне глянулась. Беленькая такая. Сама махонькая, а вымя тяжелющее!
— Есть же у нас корова-то, — сказал Сигов, раздеваясь.
— Какая ж то корова! — воззвала из темноты жена. — От людей стыдно. Чисто водой доится. Пусти рыбку, хоть сколь проплавает!
«А что, — уже в полудремоте подумал Сигов, — может, и впрямь тирольскую себе возьмем, а нашу к младенцам приставим? Им такое молочко в самый раз...»
XXII
А теперь, отвлекшись от гусей и коров, нужно рассказать о жеребце Мармуре, которому суждено было сыграть в подлинной нашей истории заметную роль. «Что за историческое полотно без единой лошади!» — может воскликнуть вдумчивый читатель.
И будет прав.
Спешу объяснить, что в языке гордого народа, живущего по берегам Вислы, слово «мармур» обозначает одновременно мрамор и мех чернобурой лисицы. Жеребец получил это имя за свою необыкновенную масть. Черная блестящая щетина его крупа была кое-где подернута великолепной сединой, напоминая глыбу чугуна в дымке осеннего инея. Мармур принадлежал полковнику улан Литовского корпуса Ромуальду Гродзинскому, квартировавшему со своим полком в Брест-Литовске. И надо же было так случиться, что именно сюда прибыл в августе 1823 года государь император Александр Павлович.
До этого он осматривал военные поселения близ Старой Руссы, представленные ему графом Аракчеевым. Хотя над Старой Руссой в это время разверзлись хляби небесные и по причине ужасной грязи линейные учения на парадных новых местах делать оказалось совсем невозможно, государь всем увиденным остался примерно доволен.
Он обошел несколько изб, наблюдая в них отменную чистоту и порядок, при котором вся домашняя утварь, в том числе кочерга и ухват, находилась на своем, определенном по указанию начальства месте. За нарушение этого порядка виновные хозяйки подвергались сечению розгами. Впрочем, по заверению графа Алексея Андреевича, необходимость в таких наказаниях случалась все реже, поскольку хозяйки начали уже понимать выгоды строгого порядка, сокращающего время на домашние работы. Однако в благодетельности для России этого нового способа общежития государь окончательно убедился лишь тогда, когда старший писарь Шигаев прочел ему стихи собственного сочинения:
Государь, всем землю давши,
Нам построил и домы.
Ружья в руки только взявши,
В двор ступай да и живи!
Ты хозяюшку найдешь там,
Коль захочешь, для себя.
Так об чем, друзья, тужить нам?
Жив, сударушку любя!
Эти цветы, возросшие на почве Парнаса военных поселений, так растрогали государя, что он со слезами на глазах обнял Аракчеева, обещавшись быть гостем у него в Грузино. И действительно, провел там полных два дня, после чего выехал к Брест-Литовску. Аракчеев, однако, отпросился остаться в своем имении, сказав, что по распространяемым его недоброжелателями слухам он будто бы самим присутствием при особе государя препятствует подаче жалоб. А теперь ему хотелось бы показать, что и без него жалоб никаких не последует.
«И охота тебе была, любезнейший Алексей Андреич, принимать к сердцу это праздноглаголание!» — заметил государь, употребив, дабы сделать своему любимцу приятное, изобретенное Аракчеевым словечко. Словечко это всем в Петербурге было известно. Если какой-то закусивший удила остряк хотел изобразить всемогущего графа, то кстати и некстати восклицал: «Праздноглагола- ние!» Между тем словечко это сколочено было крепко, и судьба уготовала ему почетное место в будущих российских лексиконах. Причем, нужно отметить, круг охватываемых им явлений действительности сильно расширился в последующее царствование.
Но, как бы то ни было, Аракчеев остался в Грузино, а государь явился в Брест-Литовск, где его ожидал наместник Царства Польского великий князь Константин Павлович. Но даже его присутствие не смогло оградить государя от неприятного сюрприза. Дело в том, что к высочайшему визиту город украсился, но повсюду решительно преобладали польские цвета — белый и красный. Даже смотр кавалерии Литовского корпуса, находившейся благодаря попечению брата в прекрасном состоянии, не смог загладить того досадного впечатления, которое произвела на государя эта цветовая гамма.
Уланы полковника Гродзинского стояли на правом фланге. Красно-белые прапорцы вызывающе торчали под остриями их пик. Проехав вдоль строя войск, государь остановил коня против восседавшего на своем Мармуре полковника и через адъютанта велел ему подъехать к себе. Когда тот приблизился, государь с долей чисто мужского превосходства отметил, что полковник изо всех сил натягивает навернутые на кулак поводья, пытаясь удержать на месте приплясывающего жеребца. Это мимолетное наблюдение было государю приятно.
— У вас отменнейший конь, полковник, — сказал он с едва заметной иронией. — Посмотрим, каков он в деле... Покажите нам езду полуэскадронами!
Гродзинский круто развернул жеребца, но, не рассчитав, выполнил поворот чересчур близко к императорской лошади. Государь увидел, как жеребец резко выбросил назад правую заднюю ногу, успел различить на подкове черные комья земли и тут же ощутил страшный удар в правое берцо.
Смотр был прекращен. Государя сняли с лошади и увели, поддерживая под руки, — сам он идти не мог. Кость, однако, оказалась цела. Но к вечеру нога распухла и посинела. «Чертов лях!» — шептал лейб-хирург Тарасов, накладывая на высочайшее берцо примочку из гуллардовой воды. Впрочем, даже он не мог еще предположить, что удар, нанесенный копытом жеребца Мар- мура, станет первым звеном в печальной цепи тех недомоганий, которые через два года приведут государя к безвременной кончине.
Но до того времени ему еще предстояло пережить многое: и смерть Софьи Нарышкиной, и известия о тайных обществах, и петербургское наводнение, и встречу с отставным штабс-капитаном Евлампием Максимовичем Мосцепановым.
Через неделю, когда государь выехал в Петербург, полковник Ромуальд Гродзинский пустил себе пулю в лоб, оставив вместо предсмертной записки прошение на имя великого князя Константина Павловича о зачислении своего сына, Наполеона Гродзинского, в пажеский корпус.
А жалоб в Брест-Литовске и точно никто никаких не подал.
XXIII
На другое утро после прибытия тирольских коров Сигов, едва выйдя из дому, нос к носу столкнулся с Платоновым.
— Мое почтение, Семен