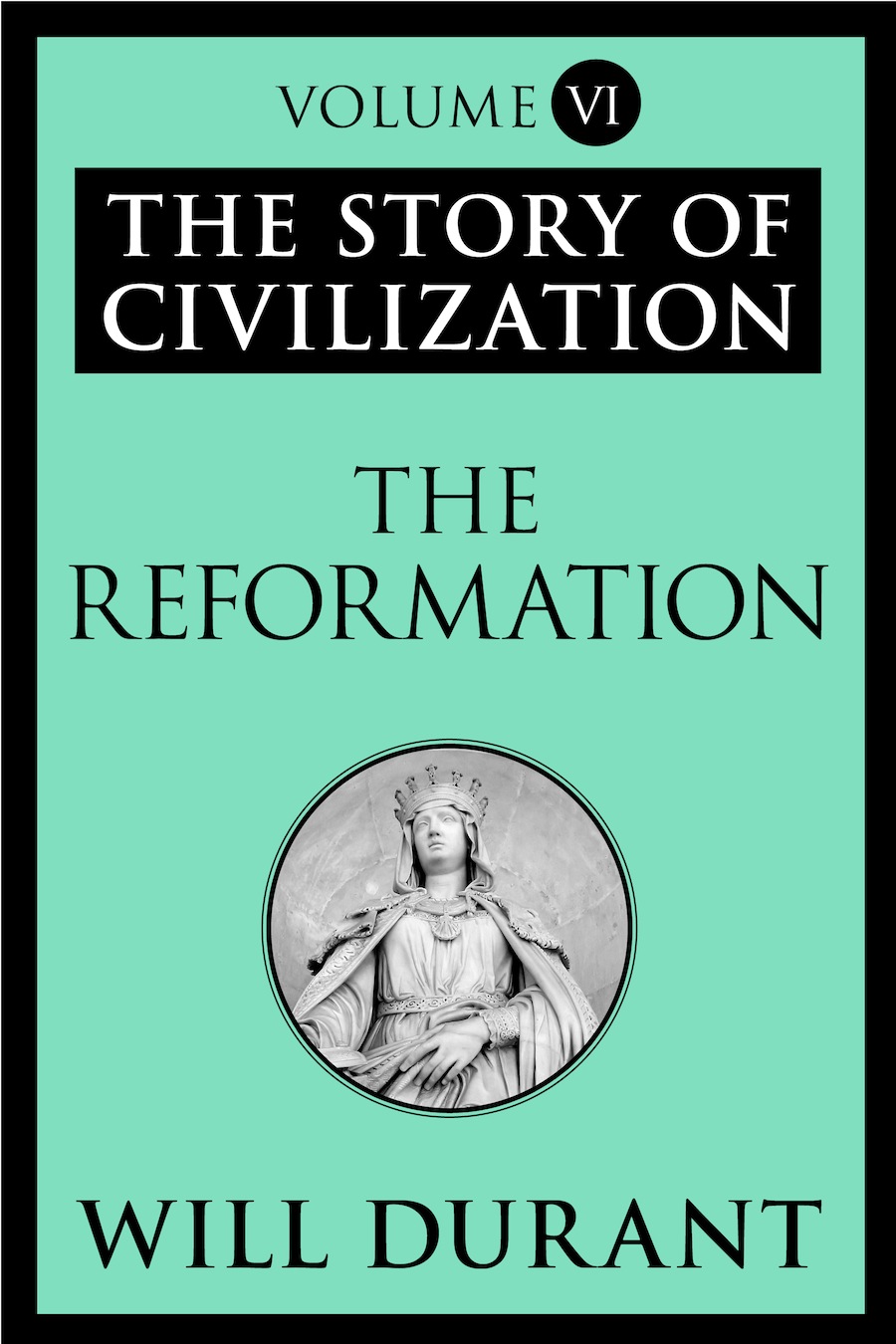запретить нам считать истиной то, во что нас побуждает верить наш разум".84
Герсонид выводил существование Бога из того, что атеист Гольбах назвал бы "системой природы": закон и порядок Вселенной обнаруживают космический Разум. К этому он добавляет телеологический аргумент: большинство вещей в живой природе создано как средство достижения цели, и Провидение дает каждому организму средства для самозащиты, развития и воспроизводства. Мир как космос или порядок был создан во времени, но не из ничего; инертная, бесформенная масса существовала от вечности; творение дало ей жизнь и форму. Между Богом и сотворенными формами находится посредническая сила, которую Герсон, следуя Аристотелю и Аверроэсу, называет nous poietikos, активный или творческий интеллект; эта эманация божественного интеллекта направляет все вещи и становится душой в человеке. Пока душа зависит от ощущений индивида, она смертна; пока она постигает универсалии, воспринимает порядок и единство мира, она становится сознательной частью Активного Интеллекта, который бессмертен.
Философия Бен Герсона была отвергнута евреями как форма аверроизма, рационализма, который в конечном итоге уничтожит религиозную веру. Христианские мыслители изучали его, Спиноза находился под его влиянием; но сердце и разум вдумчивых евреев были более верно выражены Хасдаем бен Авраамом Крескасом, который впитал в себя консерватизм Соломона бен Адрета. Он родился в Барселоне в 1340 году. Крескас пережил период оголтелого антисемитизма. Его арестовали по обвинению в осквернении святыни; вскоре он был освобожден, но его сын, накануне свадьбы, был убит во время резни 1391 года. Гонения укрепили веру Хасдая, ведь только вера в справедливого Бога и возмездное небо могла помочь ему вынести жизнь, столь злую в несправедливости и страданиях. Через семь лет после мученической смерти сына он опубликовал на испанском языке "Трактат", в котором попытался объяснить христианам, почему еврею не следует предлагать принять христианство. Вежливо и умеренно он доказывал, что христианские догматы о грехопадении, Троице, непорочном зачатии, воплощении, искуплении и транссубстанциации содержат непреодолимые противоречия и абсурдные невозможности. Однако, написав свой главный труд "Ор Адонай" ("Свет Господень", 1410), он занял позицию, с которой христиане могли бы защищать эти теории: он отказался от разума и призвал его покориться вере. Хотя официально он не был раввином, он разделял мнение раввинов о том, что новые гонения были божественной карой за то, что открытая религия подверглась рационалистическому размыванию. Если он и писал о философии, то не из-за восхищения ею, а чтобы доказать слабость философии и разума и утвердить необходимость веры. Он отвергал попытки Маймонида и Герсона примирить иудаизм с Аристотелем; кто был этот грек, что Бог должен был с ним соглашаться? Он протестовал против аристотелевского представления о том, что высшее качество Бога - это знание; скорее, это любовь; Бог - это абсолютное добро. Крескас признавал, что разум не может согласовать Божье предвидение со свободой человека; поэтому мы должны отвергнуть не свободу, а разум. Мы должны верить в Бога, свободу воли и бессмертие для нашего душевного спокойствия и нравственного здоровья, и нам не нужно притворяться, чтобы доказать эти убеждения с помощью разума. Мы должны выбирать между гордым, слабым разумом, который растворяет веру и порождает отчаяние, и смиренной верой в Слово Божье, благодаря которой только мы можем переносить унижения и несправедливости жизни.
Крескас был последним из блестящей плеяды средневековых еврейских философов. Он не сразу был оценен своим народом, так как его ученик Иосиф Альбо привлек внимание философской аудитории своим более читаемым трудом "Иккарим" ("Основные принципы"); он объединил Маймонида и Крескаса в эклектическую систему, более созвучную ортодоксальному иудаизму, который не был готов признать иррациональность веры. После смерти Альбо (1444) евреи отошли от философии, почти от истории, вплоть до Спинозы. Резня, переселения, нищета, ограничения в проживании и занятиях сломили их дух и сократили их численность до самого низкого уровня со времен падения Иерусалима в 70 году н.э.85 Презираемые и отверженные люди находили убежище в скорбных песнопениях и утешительном общении синагоги, надеясь на божественное прощение, земное оправдание и небесное блаженство. Ученые похоронили себя в Талмуде, ограничив свои рассуждения разъяснением спасительного Закона, а некоторые последовали за Кабалой в мистицизм, который сублимировал страдания в небесные иллюзии. Еврейская поэзия перестала петь. Лишь остатки то и дело поднимали голову, бросая вызов буре, или смягчали иронию жизни тоскливым юмором и язвительным остроумием. И только после того, как скромный амстердамский еврей осмелился объединить иудаизм, схоластику и картезианство в возвышенное слияние религии и науки, евреи пробудились от своего долгого и целительного сна, чтобы вновь занять свое место в бескрайнем и вечном мире разума.
КНИГА IV. ЗА КУЛИСАМИ
ГЛАВА XXXIII. Жизнь народа 1517-64
I. ЭКОНОМИКА
В каком-то смысле драма религиозных, политических и военных конфликтов, заполнившая фронт шестнадцатого века, была поверхностной, поскольку происходила лишь по разрешению более глубокой драмы, разыгрывавшейся за историческими сценами или под помпезными подмостками ежедневной и вечной борьбы человека с землей, стихиями, бедностью и смертью. Что такое, в конце концов, буллы и взрывы пап и протестантов, соперничающие нелепости убийственных мифологий, пышность и преемственность, подагра и сифилис императоров и королей по сравнению с неумолимой борьбой за еду, кров, одежду, здоровье, супругов, детей, жизнь?
На протяжении всего этого периода европейские деревни должны были днем и ночью караулить волков, диких кабанов и другие угрозы для своих стад и домов. Стадия охоты сохранилась в земледельческую эпоху: человек должен был убивать или быть убитым, а оружие защиты делало возможной рутину труда. Тысячи насекомых, лесных зверей и воздушных птиц соперничали с крестьянином за плоды его посевной и трудовой деятельности, а таинственные болезни уничтожали его стада. В любой момент дожди могли превратиться в эрозийные потоки или всепоглощающие наводнения, а могли и задержаться, пока все живое не зачахнет; голод всегда был не за горами, а страх перед огнем не покидал разум. Болезни вызывали частые звонки, врачи были далеки, и почти в каждом десятилетии чума могла унести кого-то из членов семьи, дорогих в привязанностях или в осаде земли. Из каждых пяти рожденных детей двое умирали в младенчестве, еще один - не достигнув зрелости.1 По крайней мере раз в поколение вербовщик забирал сына в армию, а армии сжигали деревни и опустошали поля. Из выращенного и собранного урожая десятая часть или даже больше уходила помещику, десятая - церкви. Жизнь на земле была бы слишком тяжела для тела и души, если бы не счастье, выражавшееся в веселье детей, вечерних играх, освобождении от песен, амнезии таверны и полуправдивых, полусомнительных надеждах на другой, более милосердный мир. Так производилась пища,