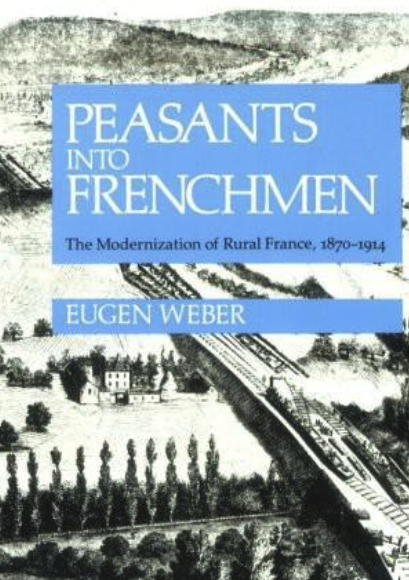жителями". Сами сельские жители соглашались: быть сельским - унизительно. Ходить как крестьянин или есть как крестьянин - это грех, который в продаваемых торговцами справочниках по этикету осуждался с порога. Другие использовали понятие расы в этом же контексте. В Лангедоке непривилегированные классы считались и считаются низшим родом: деревенские девушки, маленькие, черные и мудрые, были "другой расы", чем городские. Одним из результатов этой веры в различие рода было то, что вплоть до XIX века деревенские повитухи разминали черепа младенцев, пытаясь "скорее символически, чем реально" придать маленьким круглым головкам крестьянских детей удлиненный череп, который ассоциировался с более интеллигентными городскими жителями. И точно так же, как превосходство, предполагаемое чужаками, стало превосходством, приписываемым чужакам, так и уничижительные суждения чужаков вошли в язык, а значит, неизбежно и в мышление.
В Нижней Бретани слово pémér (первоначально использовавшееся для обозначения крестьянина-колхозника) стало применяться сначала ко всем крестьянам этой области, а затем и к самому бретонскому языку. Такие термины, как pem и beda, пошли по тому же пути, обозначая первоначально ком, затем рекрута и, наконец, любого крестьянина Нижней Бретани. Аналогичным образом, во Франш-Конте термин bouz, обозначающий коровий навоз, привел к появлению bouzon, обозначающего крестьянина. Croguants, bumpkins, clodhoppers, culs-terreux - список, который мы начали несколько страниц назад, далеко не полон. Но как будто этого было недостаточно, само слово "крестьянин" стало термином презрения, который можно было отвергнуть как оскорбление или принять как выражение смирения, но в любом случае при первой же возможности избавиться от более почетного обозначения. И действительно, английский путешественник 1890-х годов обнаружил, что это слово вышло из употребления: "как только он может, крестьянин становится культиватором"?
Крестьянину было стыдно быть крестьянином, ему было стыдно быть неграмотным; он соглашался со своими судьями, что есть нечто ценное и значительно превосходящее, чего ему не хватает, что французская цивилизация и, в частности, все, что из Парижа, явно превосходит и явно желательно: отсюда мода на парижские статьи, бретонцы издевались над теми, кто стремился подражать изысканному тону говорить "немного парижским голосом". Но они же с восхищением говорят о человеке с благородной, легкой, непринужденной, умной осанкой как о "французе". Двусмысленность очевидна и является повторяющимся явлением. Мы еще встретимся с ней. Но для того, чтобы крестьянин осознал себя некрасивым, он должен был сначала познакомиться с образцом некрасивости. И мы увидим, что во многих местах это заняло определенное время. А пока Париж и вообще Франция оставались для многих туманными, далекими местами, как, например, для крестьян Арьежа 1850-х годов, которые представляли себе Лувр как сказочный дворец, а членов императорской семьи - как персонажей сказок. В конце концов, они ничем не отличались от горожан, для которых крестьяне оставались "почти такими же неизвестными, как краснокожий индеец для туриста в дилижансе между Нью-Йорком и Бостоном".
Мы часто читаем, что в 1870 году фермеры и крестьяне составляли около 50% трудоспособного населения Франции, в 1900 году - 45%, а в 1930 году - 35%. Что, спрашивается, подразумевается под терминами "крестьяне" и "фермеры"? Были ли крестьяне однородной профессиональной группой в тот или иной период? Описывали ли термины "фермер" и "крестьянин" схожие реалии в разные периоды? Иными словами, когда мы говорим о сельской Франции и сельском населении в 1850, 1880, 1900 и последующих годах, мы говорим о схожих типах людей, схожих умонастроениях и схожих долях в национальной жизни (различающихся лишь статистическим весом)? Или же речь идет о двусторонней эволюции, согласно которой, как нам давно говорили, никто не может дважды войти в одну и ту же реку, не только потому, что изменится река, но и потому, что изменится человек?
Подобный вопрос напрашивается сам собой, но точный ответ на него сформулировать сложно. Насколько трудно, покажет дальнейшая часть этой книги. Одна из многих причин затруднений заключается в том, что французские этнографы и антропологи (не в единственном числе, конечно, но, возможно, в большей степени, чем их коллеги в других странах) до недавнего времени охотно изучали экзотические народы, пренебрегая своими собственными; а социологи, похоже, от изучения первобытных обществ сразу перешли к изучению городских и промышленных, не обращая внимания на крестьянские реалии вокруг или сразу за ними.
Так, выдающийся социолог Морис Хальбвакс в 1907 г. провел исследование образа жизни 87 семей, 33 крестьянских, 54 городских рабочих, но при представлении данных в 1939 г. указал только на городскую группу (и то в основном на пять семей парижских рабочих). В этом он не отличался от остальных своих современников, для которых парижская и национальная жизнь были далеки друг от друга, и учитывалась только первая. Так, в большом педагогическом словаре Фердинанда Буиссона 1880-х годов, ставшем библией целого поколения школьных учителей, нет ни patots, ни idiome, ни dialecte. Точно так же на рубеже веков в университетах и вокруг них шли бурные дебаты о том, должно ли преподавание латинского и греческого языков превалировать над французским, полностью игнорируя проблемы, возникающие в связи с этим. И уроки, которые можно извлечь из все еще продолжающегося конфликта между французской и местной речью. Среди множества исследований, которыми были отмечены fin-de-siécle и начало XX века, ни одно не выходило за пределы Парижа и не рассматривало то, что там происходило. И это без оговорок, с уверенностью в том, что взгляды и чаяния ничтожного меньшинства, принимающего себя за всех, действительно представляют всех.
Возможно, именно поэтому Хауссманн, пишущий мемуары в отставке, мог говорить о "нашей стране, самой "единой" во всем мире", когда Франция была еще очень далека от нее, и когда он сам имел возможность убедиться в этом воочию, занимая административные должности в Июльской монархии и Второй империи, до своего судьбоносного назначения в Париж. Миф оказался сильнее реальности.
Однако реальность была неизбежна. А реальностью было разнообразие. Возможно, одной из причин, по которой верующие в сущностное единство Франции игнорировали этот очевидный факт, было то, что они считали это единство само собой разумеющимся. Но с течением века разделение на деревню и город стало привлекать к себе внимание. Одним из первых на этом стал настаивать экономист Адольф Бланки, много путешествовавший по темной Франции, отчасти с официальными исследовательскими миссиями, отчасти для подготовки исследования сельского населения, которое, к сожалению, так и не увидело свет. В своих предварительных выводах, опубликованных в 1851 году, Бланки отмечал: "Два разных народа, живущие на одной земле, настолько отличаются друг от друга, что кажутся чужими друг другу, хотя и объединены узами самой жестокой централизации, которая когда-либо существовала". В