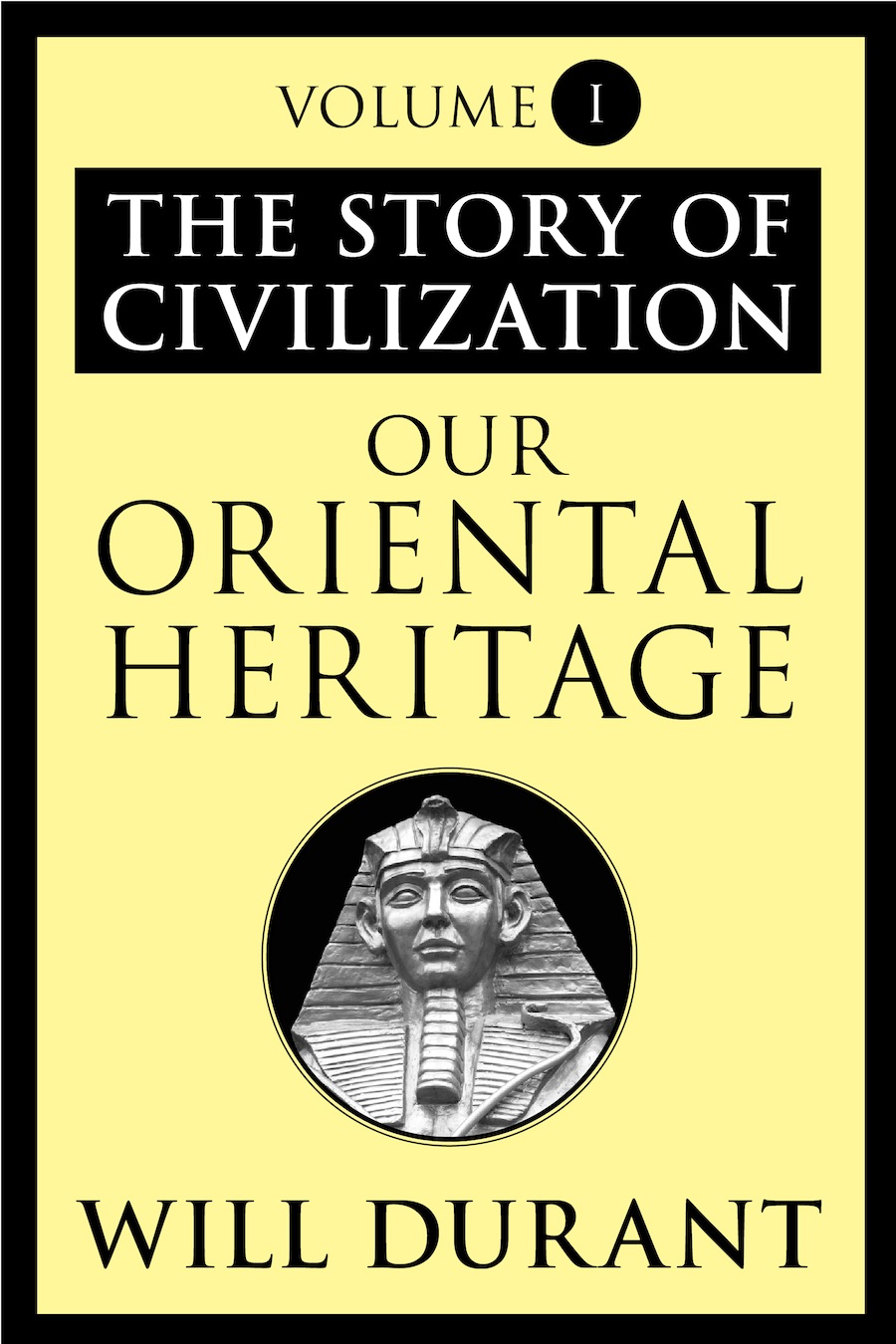усилий и забот, по дюжине в день, пока не проиллюстрировал каждый уголок плебейской Японии. Никогда еще нация не видела такого плодородия, такого быстрого и пронзительного замысла, такой безрассудной жизненной силы исполнения. Как американские критики свысока смотрели на Уитмена, так и японские критики и художественные круги свысока смотрели на Хокусая, видя лишь буйство его кисти и случайную вульгарность его ума. Но , когда он умер, его соседи, которые еще не знали, что Уистлер, в скромный момент, причисляет его к величайшим художникам со времен Веласкеса.87- с восторгом наблюдали за столь долгими похоронами в таком простом доме.
Менее известным на Западе, но более уважаемым на Востоке был последний великий представитель школы Укиёэ - Хиросигэ (1796-1858). Сотни тысяч гравюр, которые принадлежат его перу, изображают пейзажи его страны с большей точностью, чем у Хокусая, и с искусством, которое принесло Хиросигэ звание, возможно, величайшего пейзажиста Японии. Хокусай, стоя перед природой, рисовал не сцену, а какую-то воздушную фантазию, подсказанную ему воображением; Хиросигэ любил сам мир во всех его формах и рисовал их так преданно, что путешественник до сих пор может узнать предметы и контуры, которые его вдохновляли. Около 1830 года он отправился по Токайдо, или почтовой дороге, из Токио в Киото, и, как истинный поэт, думал не столько о цели, сколько об увлекательных и значительных сценах, которые встречались ему на пути. Когда, наконец, путешествие было завершено, он собрал свои впечатления воедино в своем самом известном произведении - "Пятьдесят три станции Токайдо" (1834). Он любил изображать дождь и ночь во всех их мистических формах, и единственный человек, который превзошел его в этом, - Уистлер - смоделировал свои ноктюрны по мотивам ноктюрнов Хиросигэ.88 Он тоже любил Фудзи и сделал "Тридцать шесть видов" на эту гору; но он также любил свой родной Токио и незадолго до смерти сделал "Сто видов Йедо". Он прожил меньше лет, чем Хокусай, но отдал факел с большим удовлетворением:
Я оставляю свою кисть у Азумы.
И отправляйтесь в путешествие на Святой Запад,
Посетите знаменитые пейзажи.*89
XI. ЯПОНСКОЕ ИСКУССТВО И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Ретроспектива - Контрасты - Оценка - Гибель старой Японии
Японская гравюра была почти последней фазой той тонкой и нежной цивилизации, которая рухнула под ударом окцидентальной промышленности, так же как циничный пессимизм западного ума сегодня может быть последним аспектом цивилизации, обреченной погибнуть под пятой восточной промышленности. Поскольку средневековая Япония, дожившая до 1853 года, была для нас безвредна, мы можем оценить ее красоту покровительственно; и будет трудно найти в Японии конкурирующих фабрик и угрожающих пушек то очарование, которое манит нас отборной прелестью прошлого. В наши прозаические моменты мы знаем, что в старой Японии было много жестокости, что крестьяне были бедны, а рабочие угнетены, что женщины там были рабынями и в трудные времена могли быть проданы в распутство, что жизнь была дешевой, и что в конце концов для простого человека не было закона, кроме меча самурая. Но и в Европе мужчины были жестокими, а женщины - подвластным классом, крестьяне были бедны, а рабочие угнетены, жизнь была тяжелой, а мысли - опасными, и в конце концов не было никакого закона, кроме воли лорда или короля.
И как мы можем испытывать некоторую привязанность к той старой Европе, потому что посреди нищеты, эксплуатации и фанатизма люди строили соборы, в которых каждый камень был высечен в красоте, или мученически погибали, чтобы заслужить для своих преемников право мыслить, или боролись за справедливость, пока не создали те гражданские свободы, которые являются самой драгоценной и ненадежной частью нашего наследства, так и за грубостью самураев мы почитаем храбрость, которая до сих пор придает Японии силу, превосходящую ее численность и богатство; За ленивыми монахами мы чувствуем поэзию буддизма и признаем его бесконечные стимулы к поэзии и искусству; за резкими ударами жестокости и кажущейся грубостью сильных к слабым мы признаем самые любезные манеры, самые приятные церемонии и непревзойденную преданность красоте природы во всех ее проявлениях. За порабощением женщин мы видим их красоту, нежность и несравненную грацию, а среди деспотизма семьи мы слышим счастье детей, играющих в саду Востока.
Сегодня нас мало трогает сдержанная краткость и непереводимая суггестивность японской поэзии, а между тем именно она, как и китайская, породила "свободный стих" и "имажизм" нашего времени. В японских философах мало оригинальности, а в ее историках мало той высокой беспристрастности, которую мы ожидаем от тех, чьи книги не являются приложением к вооруженным или дипломатическим силам их страны. Но это были незначительные вещи в жизни Японии; она мудро отдавалась созданию красоты, а не поискам истины. Почва, на которой она жила, была слишком коварной, чтобы способствовать возвышенной архитектуре, и все же дома, которые она построила, "с эстетической точки зрения являются самыми совершенными из когда-либо созданных".90 Ни одна страна современности не сравнится с ней в изяществе и прелести мелочей - одежды женщин, искусности вееров и зонтов , чашек и игрушек, инро и нэцкэ, великолепии лака и изысканности резьбы по дереву. Ни один другой современный народ не сравнится с японцами ни в сдержанности и деликатности декора, ни в повсеместной утонченности и безупречности вкуса. Правда, японский фарфор ценится даже японцами не так высоко, как сунский и минский; но если китайские изделия превосходят их, то работы японских гончаров все равно стоят выше современных европейских. И хотя японской живописи не хватает силы и глубины китайской, а японские гравюры - это в худшем случае просто плакатное искусство, а в лучшем - преходящее искупление торопливых мелочей национальным совершенством грации и линии, тем не менее именно японская, а не китайская живопись, и не японские гравюры, а японские акварели произвели революцию в изобразительном искусстве XIX века и послужили толчком к сотне экспериментов в области новых творческих форм. Эти гравюры, хлынувшие в Европу в связи с открытием торговли после 1860 года, оказали глубокое влияние на Моне, Мане, Дега и Уистлера; они положили конец "коричневому соусу", который подавался почти ко всем европейским картинам от Леонардо до Милле; они наполнили полотна Европы солнечным светом и побудили художника быть поэтом, а не фотографом. "История прекрасного, - говорил Уистлер с той развязностью, которая заставила полюбить его всех, кроме современников, - уже завершена - высечена в мраморе Парфенона и вышита вместе с птицами на веере Хокусая у подножия Фудзи-ямы".91
Мы надеемся, что это не совсем так; но это было неосознанно верно для старой Японии. Она умерла через четыре года