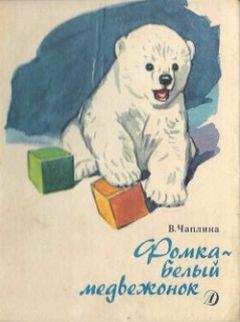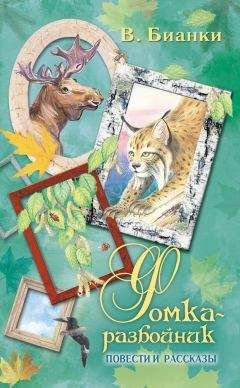избытку ведь он такое творил! Детишки ведь пухнут, вередами с голодухи идут... Помилуйте, Семен Михеич!
— Замолчи, — сказал ей Евлампий Максимович и повернулся к Платонову, как к лицу, ответственному за порядок в имении. — Остановить должно эту экзекуцию!
— Послушайте, Евлампий Максимович, — сочувственно проговорил тот, — мы все понимаем, что это не-
порядок. Но в чьих интересах мы его допускаем? В моих? В его? — он указал на Сигова. — По правилам розгами наказать? Так ведь не страшно. Попривыкли, черти. А нам пример надобен. У меня, может, у самого сердце кровью обливается. А понимаю: надо...
— Выходит, — сдерживая бешенство, спросил Евлампий Максимович, — законы не про вас писаны? Горный устав, выходит, что дышло? — И не сдержался, закричал все-таки:— Вы повторите, что сказали! Повторите, я говорю!
— Нет, это решительно всякие межи переходит, — начал было Платонов, сняв треуголку и потирая большие взлизы над гладким белым лбом.
— Ум свой прежде обмежуйте! — крикнул Евлампий Максимович.
Снова ударил кнут, единой грудью вздохнула толпа, и вздох этот словно приподнял Евлампия Максимовича, оторвал от земли. Резким движением, от которого моргнул и отшатнулся Сигов, он перекинул трость из правой руки в левую, выбросил правую руку вперед, к бедру Платонова, и вырвал у него из ножен шпажку. Поворотился и побежал обратно к месту экзекуции, смешно припадая на покалеченную ногу. Венька отступил от него, опустил кнут. Евлампий Максимович легко взметнул шпажку и двумя ударами перерубил веревки у самых щиколоток мужика. Тот попятился, вылупив глаза на своего избавителя, сел на землю. Бледное лицо Евлампия Максимовича нависло над ним, у рыжеватого бака шпажка сверкнула, и мужик, до сего времени ни стона не издавший, закричал вдруг дико и страшно:
— А-ааа-а!
Видать, Венька его все же не в полную силу сек.
Евлампий Максимович отшвырнул шпажку и скрюченными пальцами рванул на себе ворот рубахи.
— Душно ему, — сказали в толпе.
Но Евлампию Максимовичу не было душно. Лишь сердце все острее щемило. Он вытащил из-под рубахи большой нательный крест и на цепке, склонившись, поднес мужику:
— Целуй! Перед всеми целуй, что воровать не станешь!
Мужик покорно сунулся к тельнику.
— Да хорошо целуй! Не в подножье и не мимо креста! В самой крест целуй, и устами, не носом!
Евлампий Максимович хотел еще громче и страшнее на него прикрикнуть, но вместо крика вышел у него шепот. Сердце сильнее сдавило. Легкий всхлип поднялся по грудине, вышел изо рта, и Евлампий Максимович медленно начал заваливаться набок, падать на землю.
— Ить умер!—трескливый, как шутиха, высоко взлетел над пустырем бабий голос, и все перемешалось вокруг.
На бегу подобрав шпажку, Платонов подскочил к месту происшествия, торопливо сдернул треуголку и перекрестился. Сигов последовал его примеру, сказав:
— Царствие ему небесное.
И, вспомнив про зазорных младенцев, еще раз перекрестился — легко и свободно.
Надеюсь, читателю уже понятны причины этой легкости и свободы. Но причины, по которым Евлампий Максимович заинтересовался воспитательным домом, все еще остаются нераскрытыми. Теперь, пожалуй, самое время о них рассказать.
Узнав о слухах, распространяемых женой Сигова, Евлампий Максимович сообразил наконец что к чему. И источник этих слухов, до того времени загадочный, как истоки Нила, стал для него ясен. В то время он отправил в губернию жалобу на незаконное изъятие у крестьян лошадей для нужд Высоцкого рудника. Хотя жалоба эта ничего не изменила и порядок подводной повинности продолжал нарушаться, но Сигов на случай будущих попыток такого рода решил опорочить Евлампия Максимовича. Тот же, сопоставив слух о таинственном свертке и последнее свое прошение, извлек из сундука кухенрейторовский пистолет, сберегаемый со времен великого похода, сдул с него засохшие веточки полыни, которая охраняла от моли лежавший тут же, в сундуке, штабс-капитанский мундир, и, сунув пистолет дулом вниз за гашник, отправился в контору. Евлампий Максимович не без колебаний прибег к этому последнему средству. Однако речь шла о чести. Причем не только о его собственной, но и о чести вдовы друга, безупречной Татьяны Фаддеевны.
Без стука войдя в кабинет Сигова, Евлампий Максимович заложил дверь на крючок и проговорил: «Нам бы
небезнужно прогуляться в одно место». — «У меня нет времени для прогулок», — отвечал Сигов. «Тем не менее придется». — Евлампий Максимович дерзко положил свою трость на стол, прямо поверх бумаг. Сигов попытался сбросить ее, но не сумел. Лишь произвел при этом на столе некоторый беспорядок. Тогда он вскочил, воскликнув: «Сейчас я людей позову!» И направился к двери. Однако тут же замер, приметив в руке у своего посетителя тускло сверкнувший пистолет. Пистолет медленно поднимался вверх, то есть рукоять его оставалась почти неподвижна в руке Евлампия Максимовича, а дуло на глазах у Сигова все укорачивалось, укорачивалось, утрачивая блеск, пока не превратилось в черный кружочек, от которого он уже не мог оторвать взгляда. «Ну, если так, — Сигов ненатурально пожал плечами, понимая, что от сумасшедшего штабс-капитана всего можно ожидать, — то куда вы намерены меня отвести?» — «В воспитательный дом, — сказал Евлампий Максимович.— Велишь надзирательнице, чтобы она слухи, тобой распространяемые, в народе опровергла... Да и жене скажи, чтоб поменьше языком чесала!» — «Помилуй бог, какие слухи?» — Сигов изобразил на лице полнейшее непонимание. «А такие, — объяснил Евлампий Максимович. — Сам знаешь, какие».
Старшая надзирательница встретилась им перед крыльцом ветхой избушки, где и размещалось основанное Николаем Никитичем богоугодное заведение. Она намеревалась его покинуть, но, приметив управляющего, сделала вид, что, напротив, именно туда и направляется. Это была дородная, грязно одетая баба лет сорока, с лицом одновременно жестким и сладким, как засохшая сдобная булочка. «Коли вы к нам, Семен Михеич,— быстро заговорила она, — так повременили бы с недельку». — «А что?» — спросил Сигов. «Да мрут же, — отвечала надзирательница. — Мрут младенчики-то...» Сигов обеспокоился: «И многие мрут?» При этом он покосился на Евлампия Максимовича — как расценит тот такой непорядок. «Вчерась отец Игнатий приходил, — сказала надзирательница.—Мы уж всех, которые есть, и соборовать решили... Один помер, так и всех, стало быть, призывают».
«А где, к слову будь сказано, тот младенчик, что первым помер?» — внезапно спросил Сигов и глянул в упор на надзирательницу. Затем резко мотнул головой в сто-
рону Евлампия Максимовича: «Не он ли забрал?» Надзирательница удивленно вытаращила свои маленькие черные глазки — будто две изюминки сидели в булочке, и, видно, скумекала что-то. Затараторила: «Он, он! Унес,