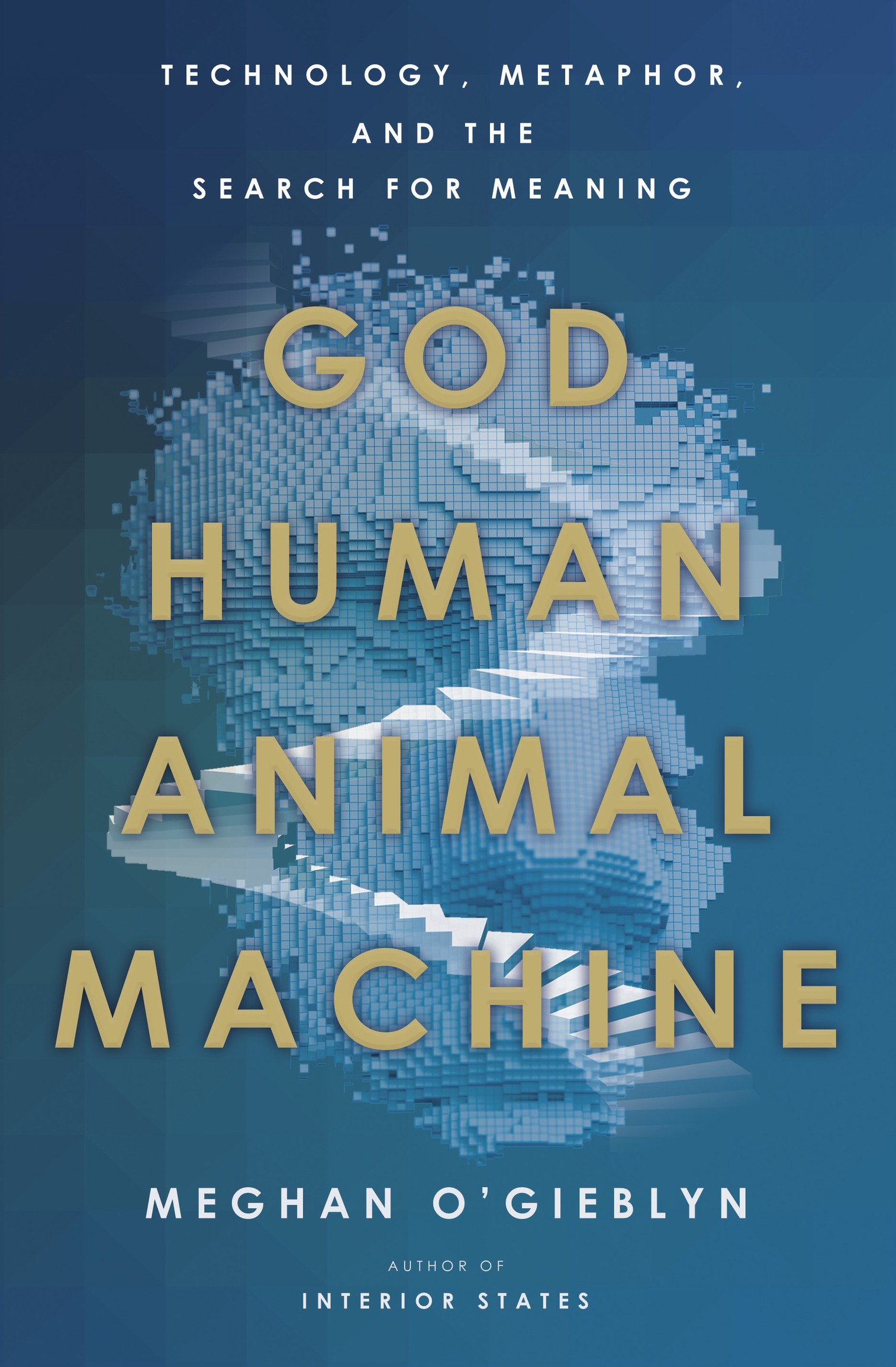чем пары недель, когда время казалось более многослойным и обильным, чем мы когда-либо знали, возникло ощущение общности, нетерпеливого и неторопливого тепла. Мы с мужем каждый день совершали долгие прогулки, неизбежно сталкиваясь со знакомыми, которые, как и мы, изголодались по человеческому общению, и наши разговоры по вечерам, когда мы стояли в лучах уходящего солнца, гладили их собак и разговаривали с их детьми, часто казались происходящими вне времени. В течение нескольких недель я обнаружил, что меня нехарактерно переполняют эмоции в ответ на самые незначительные вещи - ролики с итальянцами, находящимися на карантине, поющими на своих балконах, фотографии пожилых пар, целующихся через пластиковые больничные перегородки, - изображения, которые, казалось, обнажали некоторые истины, о которых современная жизнь заставила нас забыть. Мы были так уязвимы. Мы жили в хрупких телах, которые неизбежно умрут, и эти изображения однажды станут всем, что от нас останется. Это был период, когда казалось, что все происходит через призму исторической дистанции, как будто я наблюдаю за разворачивающимся настоящим, каким его запомнит будущее.
Но эта фаза, как я уже говорил, была удивительно короткой. Вскоре система вновь заработала в прежнем режиме, плавно впитывая в свою оперативную логику все нарушения и хаос того года. Контент продолжал поступать по информационному трубопроводу в привычной для нас манере, а смена темы не нарушала его основной формы. Пользователи Twitter, известные своими язвительными высказываниями, теперь писали цитаты Ковида, используя идентичный синтаксис; знаменитости, овладевшие искусством возмущения и тревоги, теперь делали это, публикуя фотографии переполненных пляжей в День поминовения или видео, на которых протестующих бьют слезоточивым газом. Эта плавность проявлялась на всех медиаплатформах и была наиболее заметна в разделах "Стиль жизни" крупных газет, которые без заминки переходили от меню званых ужинов и рекомендаций по путешествиям к советам о том, как эффективно забить морозильник, или где найти дизайнерские маски для лица, или как выглядеть лучше всех на звонке в Zoom.
Даже фондовый рынок, за которым следили так же навязчиво, как за любым оракулом, в первые месяцы пандемии оказался в основном стабильным - то есть совершенно не связанным с экономикой и людьми, которые ее населяют. В июне в журнале FiveThirtyEight была опубликована статья, в которой автор попытался понять, почему фондовые индексы продолжают расти, несмотря на то что все обычные показатели экономического здоровья - уровень занятости, цены на нефть, уверенность потребителей - указывают на рецессию. Автор пришел к выводу, что одной из возможных причин является преобладание алгоритмической торговли, благодаря которой рынки остаются изолированными от реальных условий, в которых живут обычные граждане, включая глобальные пандемии и массовые протесты. "Беспристрастные алгоритмы не волнуются и не пугаются новостей так, как это делают люди", - пишет он.
И все же именно к этой системе, пребывающей, подобно номиналистскому Богу, в некоем трансцендентном царстве, следующей своим прихотям, своей логике, мало заботящейся о нас, часто апеллировали как к силе, которую мы должны умиротворить - силе, требующей жертвовать человеческой жизнью. Еще более удручающими, чем эти аргументы, которые были неудивительными и в основном простыми, были попытки противостоять им с помощью заумной работы по анализу затрат и выгод. Все статьи, в которых приводились аргументы в пользу закрытия, следовали одной и той же формуле: они начинались с неясной апелляции к внутренней ценности человеческой жизни, а затем быстро превращались в алгоритмы рентабельности и оценки доступности в попытке продемонстрировать, что выбор имеет смысл как с моральной, так и с экономической точки зрения - тактика, которая в итоге лишь подтверждала противоположное мнение, что человеческая жизнь сводима к экономической логике. Эта тенденция достигла своего логического конца в статье Пола Кругмана, который категорически развенчал трюизм о том, что человеческая жизнь "бесценна". По его словам, статистическая стоимость жизни постоянно рассчитывается в транспортной и экологической политике: она составляет примерно 10 миллионов долларов. Форбс стал более подробным, противопоставив статистическую стоимость жизни (ССЖ) и стоимость лет жизни с поправкой на качество (QALY), чтобы получить более точную цифру. Как человек, который провел последнее десятилетие, пытаясь понять, как человеческая жизнь может иметь ценность вне религиозных рамок, я с ужасом обнаружил, что самый убедительный и безоговорочный аргумент в пользу закрытия рынка привел Рассел Мур, представитель Южной баптистской конвенции, который утверждал, что люди созданы по образу и подобию Божьему и что любая попытка сопоставить экономику и здоровье населения "превратит человеческие жизни в галочки на странице, а не в священную тайну, которой они являются".
Одним из самых спорных аргументов против экономического шатдауна - хотя его обсуждение ограничилось академическими уголками интернета - был аргумент итальянского философа Джорджо Агамбена, который заключил, что шатдаун доказывает, что "наше общество больше не верит ни во что, кроме голой жизни". Под "голой жизнью" он подразумевал грубое биологическое выживание, не считая этических, гуманистических и социальных проблем, которые делают жизнь действительно стоящей, хотя именно эта фраза - "голая жизнь" - снова и снова цитировалась критиками, часто вне контекста, пока не стала сокращением для безжалостного мирового порядка, который отдает предпочтение экономике перед индивидуальными душами, для которых она была создана.
Лишь немногие из этих ответов смогли отразить всю широту критики Агамбена, который, по сути, был глубоко обеспокоен тем, что пандемия представляет собой угрозу для нашей человечности. Это проявилось, по его мнению, в том, как она изолировала и отчудила нас от наших сообществ - в том, что мы теперь рассматриваем наших собратьев "исключительно как возможных распространителей чумы, которых нужно избегать любой ценой и от которых нужно держаться на расстоянии не менее метра". Агамбен был еще более обеспокоен тем, что придет ему на смену:
Как войны оставили в наследство миру ряд вредных технологий, от колючей проволоки до атомных электростанций, так и вполне вероятно, что и после чрезвычайной ситуации в области здравоохранения будут продолжены эксперименты, которые правительствам не удалось воплотить в жизнь раньше: закрытие университетов и школ и проведение занятий только онлайн, прекращение раз и навсегда встреч и разговоров по политическим или культурным причинам и обмен друг с другом только цифровыми сообщениями, по возможности замена машинами всех контактов - всех зараз - между людьми.
Агамбен наиболее известен своими работами о "государстве исключения" - феномене, в котором правительства оппортунистически используют кризисы и чрезвычайные ситуации для усиления своей власти и подрыва конституционных прав. Независимо от того, соглашался ли кто-то с его выводами по поводу отключения, его предсказание о том, что машины придут на смену человеческому общению, было достаточно