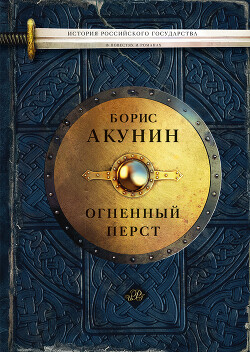Читая письмо, Ингварь дважды вскрикнул. Первый раз – когда представил, как лютые половецкие кони рвут брата на части. Второй – когда узнал, сколько серебра хочет Тагыз-хан.
Четыреста гривен!
Всё свиристельское княжество, с полями, пастбищами, скотами, звериными и рыбными ловлями, бортнями и пошлинами, давало в хороший год до тысячи трехсот гривен, в плохой – не более тысячи. На это надо дружину кормить, двор блюсти, пограничную крепость содержать, дороги-пристани чинить, Божьей церкви кланяться, погорельцам пособлять. Да мало ль расходов! Как ни изворачивайся, вечно не хватает. А тут отдай четыреста гривен! Где взять? Как потом выживать?
Род свиристельских князей шел от Святослава Ярославича, сына величайшего из русских владык мудрого Ярослава. Со временем Святославово потомство расплодилось, расселилось по всей Руси. В черниговском углу прежней единой державы утвердились Ольговичи, семя Олега Святославича, у которого, как у Ингваря, на лбу был некий родовой знак.
Обмельчала некогда могучая ветвь Рюрикова древа, поделилась на ветки, веточки и мелкие сучки. Во времена прадеда княжество было большое, во времена деда – среднее, в отцовские стало из самых малых. Худший из людей, жизни и счастья погубитель, северский княжич Володарь был прав, когда насмешливо называл Ингваря «невеликим князем». Невеликий и есть, а город его, согласно с прозванием, – свиристель, птаха крохотная, бессильная.
Сто пятьдесят лет назад были иные времена, великанские. Ныне трудно и вообразить – как это возможно: чтоб один государь правил всей необъятной Русью, от Новгорода до днепровских низовьев и от рязанской земли до Волыни. Теперь даже Всеволод Юрьевич Владимирский, гора превеликая, на какую отсюда, из ничтожного Свиристеля, голову задрать – вскружится, имеет власть только над северо-востоком, и то некрепкую, всё никак сопредельных и удельных в узду не возьмет.
Глава же рода Ольговичей, пресветлый Всеволод Святославич, сидит в Чернигове. Под ним три дюжины малых князей, всяк сам по себе. Свиристельский в этой цыплятне предпоследний. Беднее лишь восточный сосед, троюродный Юрий, князь Забродский. Его только пожалеть: обитает на рубеже со Степью и все дни, как осенний лист, дрожит.
* * *
Когда Ингварь по внезапной смерти отца и старшего брата, против воли и душевной склонности оказался на свиристельском столе, думал – не сдюжит. Отцу с его силой, опытом, мудростью, было трудно, а где уж княжить мальчишке несмышленому, которого никто никогда в расчет не брал? Свое невеликое владение отец еще больше дробить не хотел – думал всё оставить первенцу Владимиру. Второй сын, от которого можно было ожидать распри, слава Богу, убрался сам. Ингваря же отец не опасался. С детства говорил ему: «Монахом тебя сделаю. Будешь толков – со временем в архиереи поднимешься. Станешь брату-князю и родному краю духовной и церковной опорой».
Епископством Ингварь не прельщался, ибо в нем много суеты, а вот о настоятельстве в какой-нибудь тихой, покойной обители мечталось с приятностью. Жить бы в лесу, вдали от злого мира. Читать книги, разводить пчел, вести беседы с монахами о чудесном и умственном.
Но Господь судил иначе. Взял отрока робкого, в себя не верящего, ни к какому делу непригодного, за шкирку, будто котенка. Швырнул в стремнину. Можешь – плыви. Не можешь – тони.
Молодой князь побарахтался, бурливой воды нахлебался, страху натерпелся, но не потонул. Выплыл.
От неуверенности, от вечного опасения сделать промашку, он вникал во все дела сам, вплоть до самых мелких. Ни тиунам, ни приказчикам, ни старостам на слово не верил. Княжество-то небольшое. Если поздно ложиться, рано вставать и себя не жалеть, всюду поспеть можно. Узнал каждое поле, каждое пастбище, каждую бортню, каждый луг. Неделями из седла не вылезал.
Траты на княжий двор, какие только возможно, сократил. За два года не купил себе ни единой обновы, ходил во всём старом – скупился.
От этого лишнего жита не уродилось, рыбы в реке не прибыло и коровы не стали телиться чаще, но расходов казне поубавилось, так что Свиристель впервые обошелся без займа у черниговских ростовщиков – раньше самим дотянуть до урожая не получалось.
Была еще одна горькая хвороба, подтачивавшая тщедушную отчину: разбойные набеги. Речь не про половцев. С теми что сделаешь? Только дозорных по степи расставить. Они завидят орду – пускают дымы. Тогда все приграничные крестьяне, бросив дома, бегут в крепостцу Локоть. Люди, ближние к стольному городу Свиристелю, торопятся под защиту его бревенчатых стен. Надо ждать, пока орда уйдет обратно или повернет грабить другие княжества. Тогда можно возвращаться. Заново строить сожженные дома, вынимать из колодцев дохлятину, собирать, что осталось, с вытоптанных полей. И жить дальше, моля Бога, чтоб поганые в следующий раз нагрянули нескоро.
Половцы – ладно. К ним еще с прапрадедовских времен привыкли. Не так уж часто они в большой силе приходят – может, раз в пять лет. Знают, что в свиристельских краях сильно не разживешься. Но по весне, в половодье, повадились являться блудные новгородцы на лодках-ушкуях. В каждой десятка по три оголодавших за зиму, лютых, привычных к военному делу разбойников.
Пограбят приречные села, кого из людей поймают – увозят с собой. Воевать с ушкуйниками себе дороже. Людей положишь, а победишь ли, нет – неизвестно.
Отец как поступал? Собирал дружину, но сильно не торопился. Давал ушкуйникам сколько-то времени пограбить, чтобы остались не с пустыми руками, а то ведь не уйдут. Потом, тоже небыстро, с великим шумом, колотя в бубны и трубя в трубы, вел войско к реке. Тогда новгородцы столь же неспешно укладывали добычу в лодки и убирались восвояси, до следующей весны. Повсегодняя эта докука, по счету Ингваря, обходилась Свиристелю гривен в сто-полтораста ущерба. Жалко было денег, и крестьян жалко.
Поэтому к весне он приготовился загодя.
Как только над северным лесом потянулись в небо черные дымы – знак тревоги, согнал к самой дальней речной деревне окрестных мужиков, дал каждому по длинной палке. Впереди, над высоким берегом, поставил всю дружину, даже из крепости Локоть воинов снял, на Бога понадеявшись, что не наведет половцев (они весной в набег обычно не ходили).
Подплыли ушкуи, сбились посреди Крайны в кучу. С реки на берег смотреть – должно было казаться, что там изрядное войско.
У самой воды, на песке, Ингварь велел поставить двенадцать бочек пива-олуя, десяток овец, четырех коров (яловых, каких меньше жалко), несколько мешков мучицы. Жрать хотите – нате вам. А мало – вылезайте, будем биться.
Полдня ушкуи простояли, сдвинув борты. Было видно и даже слышно, как новгородцы спорили, драться или нет.
Ингварь сидел в седле, изнывая под тяжестью отцовской кольчуги. Шлем сползал на затылок, приходилось все время поправлять.
Боялся – не сказать как. Вдруг ушкуйники все же в бой пойдут? Что тогда? Боярин Добрыня остался в городе, прикрывать тыл на случай поражения. Значит, командовать придется самому. А как? И послушает ли жидкого голоса дружина?
Еще было страшно представлять, как каленая новгородская стрела с шипастым наконечником ударит в живот, между железных пластин, или того хуже – в глаз. А за щиты воинов не спрячешься. Надо быть все время на виду – князь.
Однако новгородцы решили не биться. Ближе к вечеру высадились, забрали гостинцы. Ингварь послал вперед самого рослого и зычного дружинника – крикнуть, чтоб больше не приходили, на следующий год подношения не будет.
И что же? В эту весну снова со всей дружиной ждал ушкуйников, но дымы над лесом не поднялись. Не явились ушкуйники. Верно, приладились кормиться в другом месте, где проще.
Больше всего Ингварь гордился не тем, что отвадил северных разбойников, а делом большим, трудным, доселе неслыханным. Сам придумал – от вечного своего беспокойства. В прошлом апреле, когда решил, что можно обойтись без ссуды под новый урожай, стало очень страшно: дотянут ли люди до летних грибов, ягод, огородного пропитания? Хлеб ведь только осенью будет. И весь свиристельский народ привиделся ему (ночью это было, в полудрёме) сонмищем разинутых голодных ртов, которые нужно накормить. Подумалось: знать бы точно – сколько их, этих ртов. Тогда можно бы рассчитать, хватит запасенного в амбарах зерна иль нет.