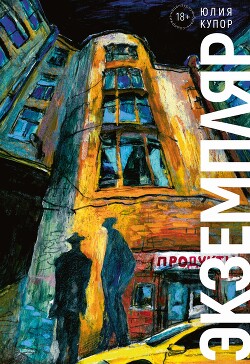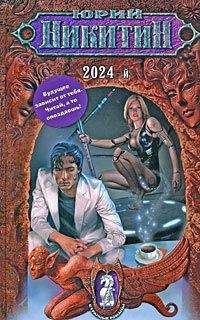своего места. Весь Женькин рассказ она прослушала, полуприкрыв глаза, — Косте временами казалось, что она дремлет. — Ну хватит уже о грустном! — Юленька замахала руками, точно маленькая рассерженная мельница. — Ну сердце уже кровью обливается от ваших драм и трагедий! Неужели нельзя жить просто, не превращая свое существование в дешевый водевиль с роковой любовью и фальшивыми страстями!
— Юленька, я из девятнадцатого века, — напомнил герр Мотль, смотря снизу вверх на свою ассистентку. — Дешевые водевили были моей привычной средой обитания, как для вас сериалы на «Нетфликсе». Ты уж не сердись, душа моя.
Юленька демонстративно покинула библиотеку и вернулась через какое-то время, неся в руках открытую бутылку белого вина и два бокала, которые она держала подставками вверх, ухватившись тонкими пальцами за изящные ножки. Никогда еще декаданс не был так близок и так притягателен. Хотя… смешались эпохи, вот девятнадцатый век танцует рокабилли, вот юный романтик, последователь Байрона, греет ложку на медленном огне… Смешались эпохи, да…
— Будете? — Юленька помахала бутылкой перед собравшимися.
Костя отказался, припомнив, что он все-таки за рулем, Марта тоже отказалась, в результате вино досталось герру Мотлю, который без того сидел с раскрасневшимся лицом, и самой Юленьке.
— Жизнь коротка, — произнесла Юленька, которой, очевидно, выпитый глоток вина добавил вдохновения. — Все заканчивается трагедией и смертью. Люди сгорают заживо, погибают под колесами поезда, на них сваливается горящая кулиса. Но можно хотя бы на минутку, хотя бы на сотую долю секунды не вспоминать о том, что нас ждет? О том, что мы смертны, о том, что рано или поздно каждый из нас обнаружит себя в ящике из сосны…
— Меня в цинковом хоронили, — встрял Женька, древнегреческий бог уместности. — В цинковом и в закрытом. Потому что у меня всю башку раздристало.
— Это я его убил, — поспешил добавить Костя, который теперь не забывал ни на секунду о том, что натворил тем далеким июньским вечером.
— Жизнь, смерть, убийства, фатум, судьба, пункт назначения… — Юленька одним махом выпила все содержимое бокала. — Чем больше мы об этом думаем, тем страшнее становится.
— Ох, — произнесла Марта и задумчиво покачала головой. — Ох, надеюсь, нас не подслушивают сейчас богини судьбы, неумолимые, беспощадные и обладающие скверным чувством юмора, ибо, если они обрушат свой гнев на Юльку, ей не поздоровится, и тогда она, вероятно, повторила бы судьбу Марии Лазич, несчастной возлюбленной Афанасия Фета, чье платье вспыхнуло из-за пламени лампадки, или не менее несчастной жены Есенина Айседоры Дункан, задушенной шарфом, или повторила бы судьбу одного из тех бедолаг, о которых мы читаем в желтых интернет-изданиях. Упс!
Все замолчали на краткий миг, словно ожидая, что сейчас мироздание взбесится и начнет пулять в бедную Юльку свои смертоносные дротики, а Костя еще подивился столь глубоким познаниям Марты в области поэзии и предположил, что она, вероятно, готовила в школе реферат на эту тему, а что касается статей наподобие «100 самых глупых смертей от ручной бензопилы», то он и сам их иногда почитывал. Но ничего смертельного, слава богам, в этот ласковый вечер не происходило: за окном зажигались фонари, не газовые, а вполне земные, электрические, их молочно-белый свет проникал в библиотеку через тюлевые занавески, эти занавески вряд ли планировали уподобиться злосчастному шарфу и кого-то задушить, и все было спокойно и размеренно. Но Костя засобирался домой.
— Да посиди еще! — в один голос воскликнули девчонки.
— Нет, не могу. Меня дома ждут.
Правда, в прихожей он возился непростительно долго. Долго обувался, долго нашаривал в потемках пальто, отчего-то не решаясь включить свет. Вообще, он так и не понял, где тут выключатель. А Женька смотрел на него сверху вниз, смотрел, как он, согнувшись, без ложечки натягивает ботинки, смотрел и ничего не говорил.
— А может, останешься?
— Не, — Костя наконец-то поднялся и какое-то время постоял, наблюдая за тем, как перед глазами мелькают серебристые искорки.
— Жаль.
— Да ладно, — Костя поправил воротник пальто. — У тебя же там явно оргия намечается. Не хочу мешать.
— Ой, ну какая оргия, — в скорбной темноте прихожей Женьку почти не было видно. — Какая оргия, о чем ты. Так, обыкновенный тройничок.
— Жень. Векслер, Рингтеатр, актерство это его… Как люди-то к нему попадают? Как ты попал, я вроде понял. Девчонки, Ника с Ясминой, блондин и усач, свита его. Но… почему именно они? И почему ты? Ну я, типа, убийца, хорошо. А… все?
— А мы все ненормальные, Кость. Чокнутые. Убийцы и самоубийцы, несчастные жертвы, трагически погибшие — он любит, чтобы был надрыв. Таких людей, разбитых, покалеченных и проклятых, он и привечает. Понял?
«Возможно, когда-нибудь, — подумалось Косте, — и пойму. Возможно, когда-нибудь, но, скорее всего, никогда».
— Ну я пошел, — ответил Костя. Прощание определенно затянулось. — Прости меня за все.
— Я-то простил. Теперь очередь за тобой.
Женькины слова повисли в темном воздухе на мгновение и пропали, растворившись без остатка.
11
Ойген Мотль, Рингтеатр, Роберт Векслер и его свита — ну вас, ну вас всех, достали со своей чертовщиной, дайте отдохнуть, хоть вечер провести без нечистой силы. Тепло домашнего очага, ужин на двоих, потом можно киношку посмотреть — все как у людей, все как у людей, пускай за окнами октябрь, в квартире на Фестивальной, 2 будет тепло и спокойно.
Костя припарковал машину, постоял, покурил возле подъезда, наблюдая за нехитрой человеческой жизнью. Мимо — очевидно, они спешили в «Дикси» — прошуршали две мамаши с колясками, у одной из них еще была белая собачка, как на упаковке корма «Цезарь», потом они ушли и мимо Кости прошел солидный дядька в пальто, Демьянов была его фамилия, он жил с женой и маленьким сынишкой в квартире на девятом этаже, вроде они недавно ремонт сделали. Машины подъезжали и уезжали; кругом происходило что-то интересное. Костя докурил, выбросил в урну бычок и зашел в подъезд. На душе (или что там вместо нее) было тепло.
В лифте поменяли зеркало. Прежнее было мутным и грязным, новое же сверкало амальгамой, как стихотворение Бродского. В голове крутились какие-то строчки из песен, перемежаясь с мыслями о веселом междусобойчике у герра Мотля. Какое-то безумие происходит в квартире на Карла Маркса, ну и черт с ним. Подумаешь, Женька стал заправским буржуем — человек заслужил, человек два раза умирал. Зато каким бойким стал — правду говорят: то, что нас не убивает… и даже то, что нас убивает… кто это сказал, Ницше, кажется? Или Егор Летов?
В квартире было до непривычного тихо и пусто. А где госпожа Григорьева, а? Спит? Да вряд ли спит. Кажется, ее нету. Совсем нету.
Костя привычным жестом повесил куртку