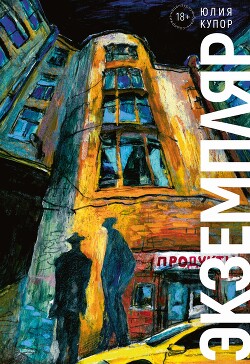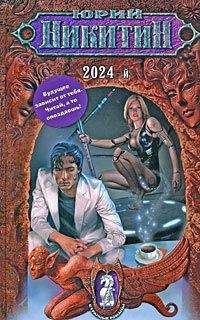в горле, ее выпил. Какая-то вакуумная неопределенность, воздух выкачали, дышать нечем, ничего непонятно, в голове вата. Не нужно было пиво пить, надо поужинать, ах черт, Блаватский, ну где он, в самом деле.
Всеобщая вакуумность мироздания усиливалась еще и тем, что сообщения не уходили. Ну где ее, черт возьми, носит, связи нету, сети нету, интернет отключили, говорил же, переходи на «Мегафон», переходи на «Мегафон», но нет же, «Билайн», мне нравится номер, он у меня давно, я привыкла, так можно не меняя номера перейти, нет, Кость, отстань, я не хочу. И вот те на — связи нет, сообщения не прочитаны, конец света близок, вот уже и всадники понукают своих норовистых лошадей. Розыгрыш розыгрышем, но пора и образумиться. Да и, положа руку на сердце, не смешно ни фига. Ухожу, говорит, десять лет жизни, бла-бла-бла, это все, конечно, очень интересно, но никуда она не уйдет, потому что, в сущности, ей уходить некуда. Сейчас она придет домой, сначала мы, конечно, посмеемся, но потом надо будет с ней поговорить, чтобы так больше не шутила. Что она, Ельцин, что ли, чтобы пафосно уходить, в самом-то деле.
Костя машинально листал меню телефона и зашел на сайт «Вконтакте». Точнее, он не просто так зашел — перед этим мелькнуло оповещение: «Диана Белогорская опубликовала новую историю. Посмотрите, пока она не исчезла».
И только он успел подумать, с чего это вдруг Диана Белогорская должна исчезнуть, как пальцы сами нашарили нужное приложение. И — ой, будто электрический разряд, так внезапно и так больно. На Дианиной полузабытой страничке, страничке, которую она не вела с начала нулевых, появились новые фотографии. На этих фотографиях, на этих, блин, селфи Диана Белогорская, счастливая, улыбающаяся, была запечатлена с мужчиной, чья красота сбивала с толку, сражала наповал, лишала рассудка, и, тьфу, как симметричны были его скулы и подбородок, как идеальна была его трехдневная щетина, как ясен был взор, о… проклятье, проклятье, проклятье…
Костя швырнул телефон об стену, подскочил со стула и, точно любовник в дешевом водевиле, начал ходить кругами по кухне, заламывая руки, изнемогая от собственной беспомощности. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Он чувствовал себя жалким, жалким, жалким, обманутым вкладчиком, лишенным смысла жизни, нутро его горело, и пресловутый огонь в чреслах грозился в одночасье все спалить, да и пусть все горит, да-да-да, гори огнем, проклятая, дурная вселенная, самый худший из миров — мир, в котором Диана Анатольевна предпочла ему, Косте, чудом выжившего красавчика-хоккеиста с идеальным лицом и, возможно, безупречной душой.
12
Костя еле разлепил губы.
— Мичурина, двенадцать, — сказал он таксисту, грузно заваливаясь на переднее сиденье.
Так это был не розыгрыш. Черт, черт, черт, она и вправду ушла, ушла, ушла-а-а, и к кому, к своему бывшему, к этому недобитому красавчику Егору, за каким-то хреном вернувшемуся в Воскресенск-33. Костя сходил в магазин и купил бутылку виски. Дайте пол-литра, «Вильям Лоусонс», возьмите лучше ноль семь, выйдет дешевле, хорошо, дайте ноль семь и шоколадку, «Альпен Голд» с орехами, хотя нет, знаете, не надо шоколада, оставьте только бухло. И продавщица пробила алкоголь, и Костя расплатился картой, ведь на карте у него теперь было много денег, очень много денег, money-money-money always sunny in the rich man’s world, и так теперь будет всегда. Еще в кармане пальто оставалась наличка, две тысячные купюры и одна пятисотрублевая, хорошо, пригодятся, ох уж эти мелкие радости богатых людей.
Наличка пригодится для такси. Ой, точно. Костя собрался в эту самую «Аризону», а зачем, что он хотел сказать жене и что он хотел сказать Егору? Да блин, придется импровизировать, потому что слов-то никаких не осталось. Таксист (лицо было знакомое — это не он тогда случайно на кладбище подвозил? Или у всех таксистов Воскресенска-33 одинаковые лица, для удобства, чтобы пассажиры не смущались?) поморщился, но, увидев в руках у Кости пятисотрублевую купюру, смягчился. Водитель включил музыку, помог Косте закрыть дверь и только после этого тронулся. Автомобиль тронулся, Костя немного тронулся, водитель не тронулся.
За окном проплывали меланхоличные огоньки уличных фонарей, теплые квадратики окон и назойливая реклама. Все это безобразие однажды было названо Воскресенском-33. Костя, не забывая по чуть-чуть прихлебывать из бутылки, следил за тем, как под музыку менялись кадры кинопленки: вот проехали АЗС, похожую на гигантскую картонную коробку с игрушечным подсвеченным изнутри минимаркетом, где сновали туда-сюда крохотные человечки в красной спецодежде — кассиры, издалека похожие на лего-человечков, потом проехали мертвый и безжизненный пустырь, потом проскочили шеренгу пятиэтажек, похожих на корпуса огромной больницы, такие они были одинаковые, потом эта больничная скромность сменилась почти рождественским шиком «Бруклина» (только тогда Костя догадался, что таксист нехило-таки удлинил дорогу, сделав крюк чуть ли не в полгорода), а на смену «Бруклину» снова пришли пятиэтажки и затерянный среди пятиэтажек «ШИНОМОНТАЖ 24 ЧАСА, МОЙКА АВТОМОБИЛЕЙ». Ах, вот в чем дело — поехали в объезд, не через Мичурина, где вещевой рынок, а через Дзержинского, где была та самая хинкальная, куда так настойчиво звал Женька. Это было совсем недавно, точно. Тысячу лет назад. Это было незадолго до того, как небо раскололось на мелкие осколки и как все эти осколки, количеством в тысячу штук, вонзились в Костино (почти история Кая, Герды и Снежной королевы) сердце, и как теперь это сердце, израненное холодной бесконечностью, болело при каждом вдохе.
Костя был чертовски пьян, очень пьян, пьян в дрова, в сосиску, в слюни (вот только сейчас он додумался ладонью вытереть рот и сделать это так, чтобы водитель не заметил, а он, скорее всего, заметил, но ничего не сказал), пьян как один миллион, одна тысяча пьяных пьяниц, и мысли в голове ворочались так медленно, точно борцы сумо в замедленной съемке, и все сознание заволокло искусственным туманом из дым-машины, и тумана этого становилось все больше и больше. И тут еще этот таксист со своим «Нашим радио» — серьезно-серьезно, он слушал «Наше радио», что было немного не по-воскресенски и совсем не по-таксистски.
Побледневшие листья окна
Зарастают прозрачной водой.
У воды нет ни смерти, ни дна.
Я прощаюсь с тобой…
Костя несколько раз успел задремать и проснуться, а эта песня все не заканчивалась и не заканчивалась, все не заканчивалась и не заканчивалась, и Шевчук все пел, и все пел, и все пел, и все пел, чертовски длинная песня, подумал Костя, ну просто чертовски длинная, почти бесконечная, это все, что останется после меня, это все, что возьму я с собой, а я вот ничего не возьму, и ничего-то