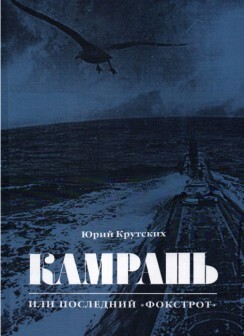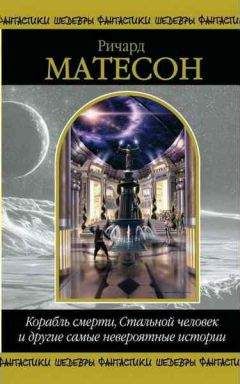может учудить? За время флотской службы я уже привык к мысли, что матрос, который не находится на виду, – это потенциальный источник опасности.
Предчувствуя недоброе, я лихорадочно соображал, что делать? Вариантов было не так много. Можно доложить командиру… Но он или рассмеётся, или спросонья пошлёт куда подальше… Или объявит тревогу… Тогда, повинуясь трезвону колоколов громкого боя, все подскочат со своих лежанок, матерясь, разбегутся по боевым постам, и матрос, без сомнения, найдётся. Но! Уже второй час ночи, экипаж спит… Да и не хочется давать на завтра повод для подначек.
Ещё раз поясню уважаемому читателю, почему, почуяв неладное, я так озаботился. То, что Витя был моим торпедистом, – это, конечно, да, но другого своего подопечного я бы так не искал – давно бы уже плюнул, успокоился и завалился спать. Действительно, куда денется матрос с подводной лодки? Утром сам найдётся! Но в отношении Юшкина я себе такого позволить не мог. Почему? Да хотя бы потому, что Витя был Человек. Да, именно тот, который с большой буквы. И если он пропал – это не просто так… Значит, попал в беду!
То, что Юшкин не такой, как все, я почувствовал сразу, едва ли не с первой встречи, когда полтора года назад нам пригнали новую партию «карасей». Среди их серой массы Витя не выделялся ничем. Такая же бритая, с торчащими ушами голова и мешковатая, не по размеру, роба, та же опасливая настороженность во взгляде, безропотная и безусловная покорность во всём облике. Но, в отличие от остальных, Витя не выглядел ни жалким, ни несчастным, ни забитым. Его покорность была – не рабская, не униженная, а какая-то достойная и походила скорее не на покорность, а на иноческое смирение. Глаза смотрели спокойно-кротко, хоть и настороженно, но без холопского заискивания. Это был взгляд Святого отрока Варфоломея со знаменитой картины Нестерова. Видно было, что Витя такой не потому, что «карась» и что так сложились обстоятельства, а потому, что это нормальное его состояние. Он такой есть, был и будет таким всегда! И ничто не может его изменить, сделать заискивающим, раболепным, угодливым… или наоборот – важным, заносчивым, высокомерным…
Мне всегда было странно и неприятно наблюдать за стремительной эволюцией самосознания «карасей». Жалкие забитые скромники, боящиеся лишний раз поднять глаза и открыть рот, уже через год становились до крайности разговорчивыми и разборчивыми. Через полгода начинали огрызаться и пока ещё робко, но качать права. Ещё полгода – и не узнать человека! Куда девались робость, скромность, потупленный взгляд? Где это жалкое, тщедушное, вечно несчастное существо? Его нет! Есть сытое вальяжное мурло, до предела исполненное достоинства и готовое лопнуть от осознания собственной значимости. За редким исключением так происходило со всеми. Причём чем жальче и зачуханнее изначально был «карась», тем важнее и величественнее из него получался «годок».
Матроса Юшкина такие метаморфозы не коснулись. Как и полтора года назад, он был прост, терпелив и послушен во всём. Старательно исполняя все приказания начальства, он, несмотря на срок службы, безропотно продолжал драить гальюны, производить приборки и всё то, от чего его одногодки уже предпочитали открещиваться, перекладывая на плечи новых «карасей». Чувствовалось, что такое положение дел Витю нисколько не напрягало. Он не боялся никакого физического труда, гораздо больше его тяготило безделье, и ему нисколько не зазорно было на втором году службы пахать наравне с «карасями».
Я уже как-то упоминал, что сама по себе служба на подводной лодке (а особенно – в автономном плавании) подразумевает проведение основной массы времени в лежачем положении. В таких условиях, падая на благодатную почву, природная леность некоторых особей со временем разрасталась до совершенно немыслимых размеров. Тому способствовала и сложная система правил и предрассудков, выдуманная и насаженная в воинских коллективах идеологами дедовщины. Культивируя у старослужащих презрение ко всякому физическому труду, она требовала от них и соблюдения своеобразного «кодекса чести». Как в криминальном мире авторитетный урка не имеет права на многие вольности, так и здесь существовал некий свод негласных правил, вернее понятий, одним из которых являлось то, что уважающий себя годок если и мог работать, то только для собственного удовольствия. Для всякой прочей грязной и тяжёлой работы существовали «караси». Именно они обязаны были шустрить днём и ночью, работая за себя и за своих вальяжных «господ». Витя в эту систему никак не вписывался, что вызывало непонимание одних и презрение других.
Как непосредственный начальник, я обязан был проводить с подчинёнными неформальные беседы: расспрашивать о доме, о семье, об учёбе, об интересах в жизни. В большинстве случаев говорить особо было не о чем: обычная советская семья, садик, школа, счастливое детство… Случались, конечно, и отклонения – либо папа пил и бил маму, либо папы не было, а отпрыск шлялся, мама устала бороться и спровадила в армию. Существовало множество других форм неблагополучия и вариантов жизненных историй, но жизнь матроса Юшкина не вписывалась ни в один из известных мне сюжетов.
Витя был простым деревенским парнем. Первые восемнадцать лет жизни провёл в глухом посёлке в заповедных отрогах таёжного Сихотэ-Алиня и до призыва на военную службу никогда не видел людей больше десяти человек одновременно. Ровно столько было учеников в классе его восьмилетки, которую Витя с горем пополам окончил и дальше учиться не стал. Почему с горем пополам и почему дальше не стал? Определённо скажу: не потому, что лентяй или дебил, а просто обстоятельства так сложились.
Вите не исполнилось ещё и четырнадцати лет, когда секач задрал в тайге его отца. Причём на глазах у парнишки! Вообще-то жертвой кабана должен был стать Витя, но отец отвлёк на себя внимание разъярённого зверя и тем самым спас сыну жизнь. Этих мгновений мальчишке хватило, чтобы схватить оброненный отцом карабин, передёрнуть затвор, вскинуть и свалить кабана метким выстрелом в сердце. Но было поздно. Говоря официальным языком, полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью. Долгие два часа отец мучительно умирал на руках у сына.
Витя сделал всё что мог: вправил назад вывороченные, выпавшие на снег парящие на морозе кишки; липкими окровавленными руками вставил нитку в иголку и наживую, как смог, зашил страшную рану. Два дня и две ночи потом выбирался он из тайги, таща на себе окоченевший, заледенелый труп…
На этом закончилось Витино безмятежное детство. Оставшись после смерти кормильца единственным мужиком в семье, он взвалил на себя все мужские заботы. С этого времени Витя стал главным добытчиком и опорой для матери и двух малолетних сестёр.