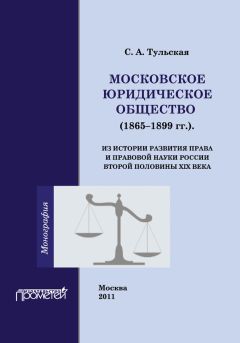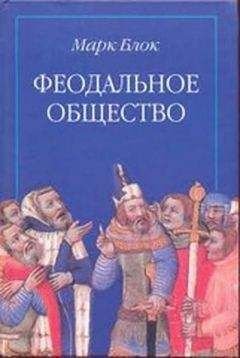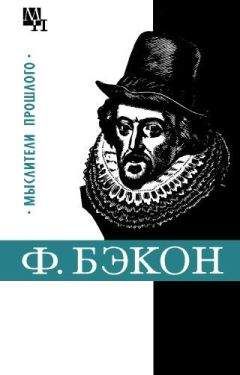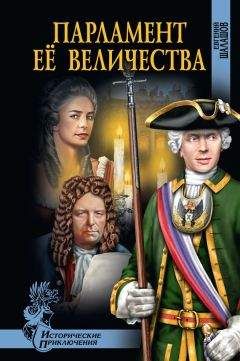В конце XVII в. аналогичная (и куда более грандиозная) трансформация государственно-бюрократических, сословно-иерархических и общинно-родовых связей началась в Англии, где ученым вместе с политиками "новой волны" удалось как бы приземлить величественную идею гражданского общества, соединить ее с организационно-процедурными механизмами, с процессами непрерывного совершенствования законодательства — и тем самым воплотить эту идею в жизнь.
Следует, однако, подчеркнуть, что особая роль английских ученых в созидании гражданского общества обусловливалась прежде всего социальным фактором — специфическим опытом институционализации науки, — которого в значительной степени были лишены континентальные ученые. Дело в том, что специальная организация совместных исследований достаточно большого[13] сообщества ученых, не зависимых от государства, от религиозно-философских доктрин и даже друг от друга, не была нужна ни небольшим научным кружкам, основанным на неформальном лидерстве, ни учрежденным государством академиям.
Так, члены созданной Кольбером во Франции Академии наук получали государственную пенсию (их лондонские коллеги, наоборот, платили регулярные взносы), работали по утвержденной тематике, а результаты их исследований оценивались по непосредственной пользе для промышленности и торговли (см. [13, с. 256]). При этом главный недостаток подобного регулирования заключался не столько в утрате французскими естествоиспытателями свободы исследований (их вполне можно было проводить в приватных условиях), сколько в том, что ученые оказались лишенными социального по своей сути опыта институционализации экспериментального естествознания как особой, не сводимой ни к инженерному искусству, ни к алхимии и магии, ни к теоретической физике (тяготеющей к мысленным экспериментам) форме познания реальности.
Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что во Франции было немало выдающихся экспериментаторов, среди французских (и немецких) ученых долгое время сохранялось настороженное отношение к свободному, не санкционированному априорными концепциями или прагматическими соображениями экспериментированию и настойчивое стремление "втиснуть" получаемые результаты в жесткие рамки глобальных теоретических схем.[14]
Сопоставляя национальные характеры англичан, французов и немцев, Ф. Энгельс в статье 1844 г. отмечал, что англичанин имеет только частные интересы, он видит неустранимое противоречие между частными и всеобщими интересами и фактически не верит в последние, объединяется же с другими гражданами англичанин лишь для защиты индивидуальных интересов. В отличие от англичанина немец постоянно стремится представить свои частные интересы в абстрактно-всеобщей, философской форме, а француз — в национально-всеобщей, государственной (см. [15, с. 603]).
Таким образом, абсолютизм в научном мышлении оказывается неразрывно связанным с абсолютизмом в политике, и преодолеть оба эти абсолютизма можно только одновременно.[15]
Мне кажется, что творцы российского парламентаризма даже не подозревают, до какой степени решаемая ими задача является не узкополитической, а фундаментальной научно-исследовательской проблемой. И дело тут не только в том, что современный западный парламент связан множеством нитей со всевозможными НИИ. Эта связь обусловлена тем, что экономическая, политическая и культурная деятельность в сегодняшнем западном обществе все более приобретает черты научного исследования, а само это общество постепенно превращается в глобальную лабораторию. Необходимым условием этого превращения является наличие парламента, формирующего динамическую систему законодательства, которая не пытается предугадать возможные действия граждан и реакцию на них государства,[16] строится как саморазвивающаяся система знания (по типу научного), вырабатывающая базисные принципы исследования различных казусов. Несколько упрощая, можно сказать, что сформировать полноценный парламент нельзя без развития культуры научно-исследовательского — а не догматического или волюнтаристского — подхода ко всем возникающим проблемам. Такая атмосфера лаборатории начала складываться в Западной Европе в XVI–XVII вв., когда человек осознал себя стоящим на краю пропасти, окруженным со всех сторон Неведомым. Это был подлинный исторический вызов: людям пришлось усомниться буквально во всем и понять, что их мир должен или погибнуть, или начать организовываться на иных, существенно динамических принципах, позволяющих обществу, сохраняя некоторое устойчивое ядро, органически усваивать все новое.
Такие принципы увидели в работе сообщества лондонских естествоиспытателей, которые, в свою очередь, сами многому научились у политиков и в определенном смысле реализовали в своей деятельности идеалы гражданского общества. Тем самым лаборатория и парламентская демократия оказались неразрывно связанными. Для того чтобы состояться как гражданское, общество должно начать конституировать себя как свободное, самоорганизующееся сообщество независимых экспериментаторов, непрерывно обучающихся искусству вдумчивого, без революционных наскоков, отношения к природе, социуму и человеку. Именно такие экспериментаторы-ученые, политики, предприниматели позволили английской революции конца XVII в. стать славной, а не великой, превратив со временем Англию в "мастерскую мира".
Уже к началу XIV в. в ряде стран Западной Европы существовало хорошо налаженное банковское дело. Причем банки Италии систематически одалживали у населения деньги под 10 — 12 % годовых, что было возможно лишь благодаря кредитованию стремительно растущего производства (об этом см. [3, c. 231]).
В верхах общества царили коварство и цинизм, в средних слоях феодальной администрации — взяточничество и хитрость, в низах — зависть и желание забыться", — писал историк Э. Ю. Соловьев о времени кануна Реформации [4, c. 65]
Одной из причин гражданской войны в Англии 1640 — 1649 гг. Т. Гоббс считал то, что "Лондон и другие крупные торговые города, восхищаясь процветанием Нидерландов, наступившим после их восстания против своего монарха — короля Испании, были склонны думать, что подобное изменение правления принесет им такое же процветание" [5, c. 593].
В своем фундаментальном труде "Левиафан" (1651), посвященном анализу различных форм государственной власти, Т. Гоббс рассматривает парламент лишь как сугубо вспомогательный институт власти, способный при отсутствии верховного контроля над ним легко становиться источником анархии и войн (см. [8, c. 144 — 145]).
Для понимания политологических поисков XVII в. очень важно учитывать то, что мыслители этой эпохи исходили из фундаментального единства законов природы и общества (см., например, работу С. Шапина [9] об отражении династических проблем, возникших в Англии после "славной революции", в гносеологической полемике Лейбница и Кларка).
В своих экспериментах Бойль помещал трубку Торричелли под стеклянный колпак, из-под которого откачивал воздух. В результате уровень ртути в трубке понижался, из чего Бойль делал вывод, что столб ртути уравновешивается давлением атмосферы. Однако воздух под колпаком был изолирован от атмосферного. Следовательно, столб ртути уравновешивается не атмосферным давлением, а чем-то иным: упругостью воздуха, сжатого до начала эксперимента собственным весом.
При изложении позиции Гоббса в его полемике с учеными я опираюсь на материалы и выводы чрезвычайно содержательной монографии С. Шапина и С. Шеффера [2], посвященной анализу проблем обоснования в XVII в. возможности экспериментального естествознания.
Вспомним полученное лишь в 1771 г. разрешение публиковать полные отчеты о парламентских дебатах в массовых изданиях.
Знаменитые приоритетные споры (скорее, скандалы) Ньютона с Гуком и Лейбницем — это пример того, во что превращается дискуссия между учеными при отсутствии жестких процедурных рамок.
Авторитетность этих показаний определялась процедурами коллективного удостоверения получаемых результатов, т. е. была следствием правильной организации работы сообщества, способного благодаря этому адекватно воспринимать свидетельства природы.
На протяжении всего XIX в. общим местом в работах многих французских, немецких, а с началом царствования Александра II и российских публицистов и историков (М. Н. Катков, Б. Н. Чичерин и др.) были рассуждения о том, что английская политическая система, жизнеспособность которой обеспечивается историческими особенностями народа (уважение к общинным правам, гармонические отношения между сословиями и т. п.), не может быть перенесена на несовершенный, расчлененный общественный организм стран континентальной Европы (об этом см. [11, с. 114 — 120]). Еще более категоричен был О. Шпенглер. Размышляя о судьбе Германии после ее поражения в первой мировой войне, он предупреждал, что "перенос английской системы политической организации, где на поверхности — борьба всех против всех, а в глубине — предотвращающее распад англо-саксонских обществ согласие по базисным ценностям, на немецкую почву приведет Германию, при отсутствии консенсуса по базисным ценностям, к расколу и борьбе всех против всех на глобальном уровне. А это, в свою очередь, неминуемо поведет к разложению и распаду общества и государства" (цит. по [12, с. 118]). По-видимому, со словами Шпенглера согласится немало современных политологов, считающих, что мы еще "не доросли" до парламентаризма, но я думаю, что история Англии XVII в. убеждает в том, что уважение к общинным правам и "согласие по базисным ценностям" были все-таки не предпосылкой, а следствием развития в стране парламентской демократии