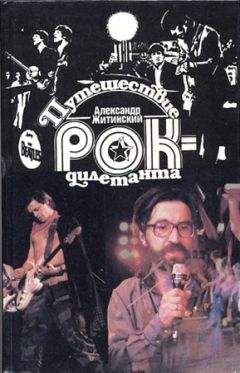Я постараюсь объяснить его на примере работы научной группы, в которую я вхожу. Мне уже приходилось писать в колонках об изучении межвидовой гибридизации зелёных лягушек (о полуклональности, о воспроизводстве гибридов, о многоуровневом отборе). Мне повезло: я живу и работаю в Харькове, недалеко от которого расположено то, что мы назвали Северско-Донецким центром разнообразия гибридогенного комплекса зелёных лягушек. Здесь встречаются, наверное, все феномены, описанные где бы то ни было для этой группы животных, попирающих множество закономерностей, установленных для «нормальных» групп.
Здесь обитают лягушки диплоидные, триплоидные и даже тетраплоидные; производящие половые клетки одного родительского вида, другого и смесь половых клеток двух разных видов одновременно; с митохондриями своего вида и с митохондриями иного вида; передающие почти неизменные геномы родительских видов и частичные рекомбинанты; носители генетических маркеров со всех концов ареала этой удивительной группы. В Северско-Донецком центре нет одного из родительских видов, но его геномы передаются из поколения в поколение через гибридов и при этом почему-то не дегенерируют. Я перечислил далеко не все чудеса, которые творятся в этом центре!
И самое интересное место этого гигантского естественного котла находится возле университетской биостанции. Обычно, когда мы об этом рассказываем, слушатели предполагают, что мы попросту лучше изучили то, что находится рядом с нами.
Представьте, это не так. Оценив разнообразие лягушек в разных местах, можно наглядно убедиться, что наша биостанция действительно расположена в эпицентре чудес. Это заслуга тех, кто выбирал для неё место в 1913 году (скоро будем праздновать столетний юбилей).
Так что, простое совпадение? С одной стороны, да. С другой — то, что мы знаем об этом центре, тесно связано и с тем, где мы находимся сами, и с тем, на что мы обращаем внимание. Вполне характерно для всех аспектов человеческого познания!
Работа, которую мы ведём с моими коллегами, — достаточно типичная естественнонаучная деятельность. Мы собираем эмпирические данные, складываем из разрозненных кусочков мозаики какую-то непротиворечивую картину, пытаемся построить на её основе более-менее целостное представление.
И вот теперь важный вопрос. Является ли то, что мы изучаем, частью «объективной реальности»? Обычно, произнося это заклинание, подчёркивают, что «объективная реальность» преспокойно продолжит себе существовать вне нашего существования и формирования представлений о ней. Существует ли полуклональное наследование, как часть «объективной реальности», вне нашего познания?
Есть адаптации к среде лягушек, есть адаптации к среде других существ. Мы создали какие-то теоретические конструкты, описывая то, что наблюдали в природе. Случай с лягушками выламывается из них, и мы создаём для него (и ещё нескольких похожих ситуаций) свои особые умопостроения. В действительности в экологической среде вокруг нас существуют зелёные лягушки, а не способы наследования. Лягушки — это совокупность безумно сложных (и практически неизвестных нам) процессов, формирующих череду онтогенезов. Кое-что в этих процессах идёт не так, как, к примеру, в процессах, образующих серых жаб.
Может, надо сказать, что в «объективной реальности» существуют лягушки? А что нам это даст? Как я уже говорил, доказать существование «объективной реальности» вообще и лягушек в ней в частности невозможно. Так в чём же смысл такого утверждения? В размышлениях о лягушках, прекрасно себя чувствующих в мире, где нет людей и некому их познавать? Как только мы начинаем о них думать, мы нарушаем условия этой задачи.
Лягушки, кстати, действительно прекрасно существовали без людей — до возникновения нашего вида. Мы их познаём, хотя это очень специфичное, фрагментарное познание. Ищем разрозненные останки, возводим на их основе какие-то умственные конструкты...
Но разве современных лягушек мы познаем как-то иначе? И в отношении них мы имеем лишь разрозненные данные, характер которых определяется в значительной степени спецификой нашего внимания, обусловленной тем, что мы об этих лягушках думаем.
Разговоры об «объективном» взгляде на лягушку или на любой другой объект обычно направлены на продвижение какого-то мнения, которое объявляется «объективным» и противопоставляется при этом всем прочим, якобы «субъективным». Это такой способ интеллектуального шулерства. Говоря об «объективном» подходе, протаскивают примерно такую точку зрения: вы все люди, ваши представления — это ваши модели, основанные на вашем чувственном опыте. Это все незрелые версии, а вот «объективное» знание, которое я сейчас достану из своей головы, как Зевс Афину Палладу, оно иное, оно не связано ни с каким субъектом и не основано на интерпретации того, чем ограничено человеческое познание...
Мне приходилось подробно писать о "химере объективности" в биологической систематике. В этой области есть научные школы, демонстрирующие удивительную примитивность мышления. Им кажется, что «субъективизма» в науке можно избежать, обработав по каким-то чётко определённым алгоритмам весь комплекс информации, полученной нами о тех или иных объектах. То, что наш «субъективизм» отражается и в том, какие данные мы собираем, и в том, как мы их интерпретируем, они просто не понимают.
Место различных моделей в познавательном процессе, представленном как система с прямыми и обратными связями. Названия моделей подчёркнуты (рисунок М. Кравченко)
Можно я приведу схему из диссертации Марины Кравченко, принятой не так давно спецсоветом к защите (я там выступаю в роли научного руководителя)? Она моделирует популяционные процессы лягушек. Постаралась собрать какую-то систему представлений о том, что изучает, формализовала представления в концептуальную модель, построила на её основе имитационную, провела серию экспериментов... Имитационная модель стала способом сбора разрозненных обрывков наших знаний во что-то целое, взаимосвязанное.
А почему объект исследования в рамочке? Потому что он принципиально недоступен иначе, чем через эмпирические данные — показания наших органов чувств, интерпретированных с помощью определенной познавательной модели. Все, показанное на схеме — продукт наших умопостроений — все, кроме объекта. Все, что мы можем — «задавать» объекту вопросы (проявляя интерес к каким-то его аспектам", собирать его «ответы», данные нам прямо или косвенно через наши чувства и пытаться их интерпретировать с помощью разнообразных моделей. Напомню, хоть это и тема для отдельного разговора: то, что мы называем «фактом», является на самом деле гипотезой, сильно зависимой от наших представлений...
А зачем нужна такая схема в работе по моделированию? Работая с моделями, можно заиграться и то ли спутать модель с действительностью, то ли вообразить, что с помощью модели можно судить об «объективной реальности». Эти опасности способны обесценить пользу от применения моделей. Нужно чётко представлять себе, с чем ты работаешь и чем являются создаваемые тобой модели. Нужно всё время напоминать и самому себе, и тем, кто пользуется результатами твоей работы, о принципиальном разрыве между любыми моделями и действительностью.
Разрыв между нашими представлениями и действительностью хорошо виден на примере, который привёл господин Гаврилов, — смотрите эпиграф. Это как раз тот случай, когда имеющий дело с моделями человек воображает, что может судить об «объективной реальности». Не буду цепляться за нехитрый софизм, спрятанный за предлагаемым им способом рассуждений: а давайте представим себе то, что существует вне наших представлений и вне связи с ними... Мы можем говорить о туманности Андромеды только потому, что она есть в наших представлениях. Вне них говорить не о чем. В рамках наших представлений мы чаще всего думаем о туманности Андромеды или как о паттерне излучений, или как о культурном феномене, связанном с каким-то пулом ассоциаций.
Впрочем, даже оставаясь в рамках этих представлений, можно осознать, что эта туманность — это совокупность астрономического количества звёздных систем, лишь относительно сравнимых с Солнечной системой. При этом стоит вспомнить, какое место занимает наше ближайшее окружение в самой Солнечной системе... А я думаю, что в туманности Андромеды есть многое, что мы вообще не сможем поместить в наши головы. К целостному пониманию её, как она существует в действительности, ещё сложнее приблизиться, чем к целостному пониманию лягушек или полуклонального наследования!
...Я уже почти дописал колонку и уже вставил в неё рассуждения о моделировании. Еду домой с работы в метро, читаю третий из докладов, посвящённых пределам роста (Д. Медоуз, Й. Рандерс, Д. Медоуз. Пределы роста. 30 лет спустя. — М.: ИКЦ «Академкнига», 2007). И, представьте, вижу почти идеальное изложение своих мыслей (с. 155 и с. 33). Читайте: