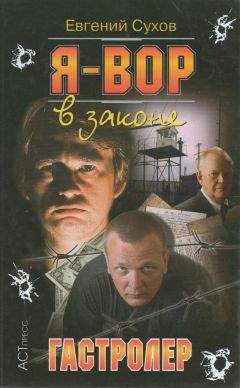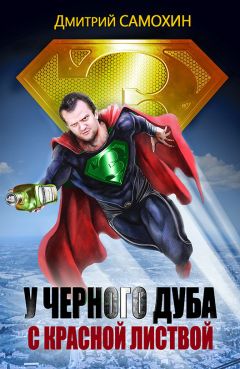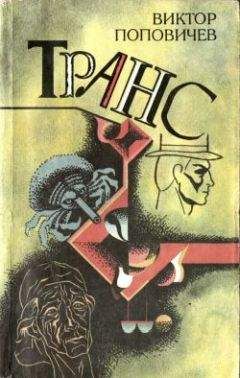Никто из обитателей камеры не стал вмешиваться в учиненный гопником расклад: видно было, что его очередь приспела крутить свежак. Жиганам было без разницы, где гоп-стопить и обувать советскую лямлю. Они хоть и умели владеть ножичком и бритвой, как королевские мушкетеры шпагой, но были вспыльчивы и азартны, а потому все ими награбленное легко перекочевывало к башковитым и рукастым ворам.
На воле воры считали западло якшаться с жиганами, но в тюрьме их объединяло взаимное презрение к делягам и рвачам из совслужащих и попутчиков, глубоко пропитавшимся тлетворным духом бюрократических нравов.
К тому же приблатненные жиганы в охотку соглашались перекинуться в картишки, и благодаря таким, как они, лихим каталам долгие дни в КПЗ тянулись не так тоскливо.
На второй день моего пребывания в Пресненской пересылке ко мне подвалил тот самый светловолосый жиган.
— Ну что, мелюзга, соорудим банчок? — деловито осведомился он, пятерней взъерошив свою соломенную копну волос и откидывая чуб со лба. — Больно мне твоя жилеточка по нраву пришлась! У меня и колотушки новенькие есть.
Эти колотушки оказались довольно примитивными картами, сляпанными из газетных и книжных листов, — точно такие же, изготовленные на мыле и по вырезным трафаретам, ходили по всей тюрьме. Я, памятуя об уроках карточной игры, взятых мной у покойного Славика, сразу согласился. Играли в стос, начав по маленькой — бросив на ставку по папироске. Стос игра быстрая, и вскоре наглый жиган проигрался подчистую. Спустив все экспроприированное у нэпманов, он не сдавался, в азарте трясясь над каждой картой и требуя продолжать игру «под ответ».
— Давай! Давай еще! Ща отыграюсь! — торопливо, будто опаздывая на поезд, залопотал жиган.
Но законы карточной игры для всех одинаковы. И через час жиган сидел на верхних нарах и кричал: «Ку-ка-ре-ку». И это ему было не западло. Таков закон: умей вовремя остановиться…
Я простил противнику остальное. А тому было не жаль проигрыша, и он вроде как даже обрадовался благородству и великодушию молодого урки, зная, что не каждый жиган пойдет на то, чтобы скостить долг.
— Знатный из тебя игрок, — восторгался жиган с деланым удовольствием. — Подучи меня малость — может, и я не хуже тебя смогу катать. Я наших тут всех обыгрываю. — Он сделал вид, что малость застеснялся, когда протянул пятерню. — Ну, будем знакомы: Калистратов моя фамилия, а звать Евгением. Кликуха у меня Копейка — это оттого, что по малолетке любил в трясучку играть по копеечке. Ну что, берешь меня в подмастерья?
Посмеялся я тогда и пожал плечами: мол, поглядим… Знал бы я, какой чудной фортель выкинет судьба и в какие азартные игры мне придется потом еще играть с Евгением Калистратовым!
* * *
Суда надо мной никакого не было. Тройка лобастых, в новеньких френчах с кубарями в петлицах огэпэушников прошлась по камерам, зачитала по списку напротив фамилий, кому по сколько назначено отсидки, — и весь сказ. Потом гноили осужденных в Пресненской пересылке до весны, а в первых числах марта загрузили всех в столыпинские вагоны и погнали состав на север.
— Куда везут-то? — тревожно спросил какой-то первоходок, едва вагон забили под завязку и замки щелкнули.
— А тебе не все равно? — ответили ему незлобиво из дальнего угла. — Привезут, тогда и узнаешь!
Хотя в приговоре скорого большевистского суда и не было четко определено, куда именно, я знал, что назначили нас в один из северных острогов, а по-новому выражаясь, концентрационных лагерей. Разгружали наш состав через трое суток под усиленной охраной мурманского конвоя. Потом вели пехом от Кеми через дамбу до самого Белого моря и погрузили на старые проржавленные баржи-лесовозы. Был март на исходе, но погода стояла по-зимнему морозная.
«Вот я, как в детстве, опять на барже, — с невеселой усмешкой подумал я, — и насовали нас как селедок в бочку. Все возвращается на круги своя…»
Соловецкий лагерь особого назначения, или сокращенно СЛОН, куда определили наш этап, находился на Соловецких островах. О далеком СЛОНе среди воров ходило множество сплетен, и трудно было понять, где в этих сплетнях правда, а где ложь. Одно знали точно: проклятое было место. Лагерь стоял на гигантском каменистом острове посреди бескрайнего угрюмого моря, на территории бывшего Соловецкого монастыря. Зэков селили большими смешанными ротами в бараках, наспех склоченных рядом с полуразвалившимися монастырскими постройками. Со всех сторон зона была ограждена несколькими рядами колючей проволоки, а сторожевые вышки, торчащие по углам, напоминали исполинских вертухаев, застывших в вечном карауле. Этим страшным лагерем пугали несознательных граждан Страны Советов с момента возникновения этой самой страны. На Соловках большевики учинили самый строгий режим, и именно сюда отправляли сначала наиболее вредоносных противников нового строя, а потом, когда коса репрессий пошла махать вовсю, сгребали всех подряд — антипартийцев, раскулаченных, простых воров и непокорных заключенных. Хватало проведенной здесь недели, чтобы понять: любой другой из сотен концлагерей, раскиданных по всей матушке-России, — просто курорт по сравнению с Соловками.
Разношерстная толпа зэков постоянно пополнялась, но население лагеря росло не шибко быстро: ведь в расход шло немало лагерников. Расстрелы были тут делом обыденным, которое исполнялось по-революционному решительно и споро. Малейшее неповиновение каралось смертью или долгой отсидкой в РУРе, без воды и хлеба, что было равносильно расстрелу.
Правил бал здесь Марк Кудряшов, бывший комиссар ВЧК, сосланный на Соловки за массовое изнасилование. Он любил похвастать, как весной 1918-го в Екатеринодаре, будучи комиссаром РККА, подписал декрет «о социализации девиц от 16 до 25 лет» и одним из первых получил на это дело мандат губернского ревкома. После дневных и ночных забав с беззащитными дворянскими и купеческими дочками красноармейцы сбрасывали под гогот и улюлюканье с высокого скалистого берега в реку Кубань изуродованные тела. Самых красивых привязывали голыми в раскорячку к «андреевским» крестам из двух досок и тыкали им внутрь штыками, замеряя глубину — у какой из девок глубже. А потом, забив прикладом между ног пустую бутылку, били по пузу, называя это артиллерией. От его рассказов у всех, не только у заключенного здесь духовенства, вставали дыбом волосы, а он смеялся. Смеялся весело, заливисто, как нашаливший маленький ребенок. Кудря, как прозвали его соловецкие зэки, в СЛОНе был царь и бог, «и Совнарком и НКВД, вместе взятые», как он любил шутить. А свою безраздельную вотчину Кудря называл Кремлем.
В конце 1928 года на Соловках поднялся бунт. Заключенные потребовали сокращения рабочего дня, нормального питания, еще просили убрать стукачей и дать гарантию, что не будет вертухаями обстрела с вышек без предупреждения. Поговаривали, что у восставших был план по зиме освободить лагерников, а потом двинуться через море на «материк». Возможно, из этой акции что-нибудь и получилось бы, если бы две враждующие группировки воров не вспомнили старые обиды и не принялись резать друг друга с хладнокровием мясников, разделывающих свиные туши.
И Кудря не остался в стороне от междоусобицы. По его приказу блоки и казармы были закрыты и вся орущая масса забузивших зэков вывалила на плац перед еще действующим монастырским собором. Не обращая внимания на брань, Кудря вывел на толстые стены соловецкого кремля всю свою псовую команду красноармейцев и приказал им открыть по толпе беглый огонь из «максимов». Скрыться было некуда, и вся орава зэков заметалась по лагерю, ища спасения. А Кудря, взяв в обе руки по нагану, стоял на крепостной стене и палил вниз, ни в кого конкретно не целясь. «Царь и бог» развлекался, как расшалившийся мальчишка, громко и весело смеясь.
Вскоре после того, как я в начале тридцатого года прибыл на острова, в СЛОНе уже начались кое-какие послабления. Летом, то есть уже при мне, на Соловки приезжал с инспекцией великий пролетарский писатель Максим Горький, горячо почитавшийся всеми ворами и зэками за то, что вышел сам из босяков. В большевистской России, во всех концентрационных лагерях, его почитали за страдальца и покровителя всех осужденных. Но что мог сделать для облегчения их участи этот согбенный жизнью и новой властью шестидесятилетний усатый старик, с глазами доброго, но не раз уже битого упрямого осла… Но все же его приезд бросил луч света на беломорские острова, правда, надолго ли, этого не ведал никто, окромя лишь Бога и Кудри… Но, Господь нашел управу на бывшего комиссара: в тридцать втором году его перевели из СЛОНа на материк, где он, как отстучал нам вскоре лагерный телеграф, был арестован и расстрелян за «перегибы».
Шел тридцать второй год. Медведю оставалось отсидеть два года три месяца — половину из пятилетнего срока, что он тянул на Соловках, как говорится, «от звонка до звонка». Чего только не пришлось повидать ему за эти два с половиной года: и тиф, скосивший в конце 1929-го половину лагпункта, и наделавшую шороху правительственную проверку 1930-го, когда сменили весь личный состав охранников, причем половину вертухаев-старожилов расстреляли на месте, а остальных разослали по соседним концентрационным лагерям, получившим новое название «исправительно-трудовые лагеря»…