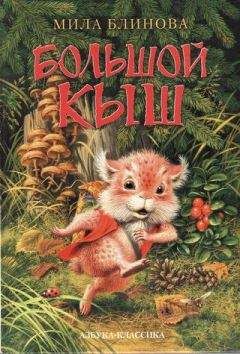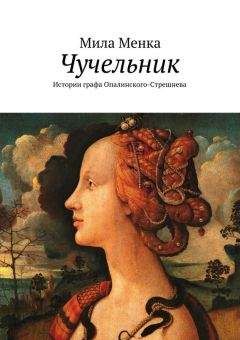Мнимая нищенка, не торгуясь, отдала картину за смехотворную цену – и старьевщик так обрадовался, что не стал утруждать себя размышлениями. Еще утром он, насвистывая, катил вперед свою тележку и благодарил судьбу за удачу. А теперь ему многое стало понятно.
Имантс вышел на свежий воздух и сел у дверей своей лавчонки. Было самое начало осени, и обычно он выставлял стол с различными предметами для продажи на улицу. Сегодня он решил этого не делать. Зачем? Ведь он теперь сказочно богат и может себе позволить просто греться в ласковых лучах сентябрьского солнца.
В этот день ничего странного с Имантсом не произошло – все было как обычно: вечером заглянул сосед Арнис – принес с собой бочонок пива. В дом приглашать Имантс его не стал, вынес на улицу еще один трехногий, но прочный табурет, стол, две глиняных кружки и даже предложил соседу табаку, хотя сам не курил.
Арнис, наливая из бочонка янтарное, душистое пиво, умудрялся курить трубку и отпускать нескромные шуточки по поводу молодых горожанок, совершающих вечерний моцион. Лавка старьевщика находилась на мощеной улочке, недалеко от ратуши, и чаще всего девицы шарахались от Имантса как от клопа – что безмерно веселило вечно краснолицего Арниса.
Имантсу очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей тайной – но он молчал, медленно тянул свое пиво и лишь изредка кивал Арнису, не особо вслушиваясь в его хмельную болтовню.
Когда фонарщики залязгали своими лестницами, Арнис ушел. Имантс испытал облегчение и, залпом допив свою кружку, всего третью за вечер, отправился спать, оставив и табуреты, и стол, и даже кружки на улице.
Закрыв дверь, он тут же полез под кровать – проверить, на месте ли сокровище. Оказалось, да. Переливается призрачным светом – завораживает красотой огранки камней и гладкостью и благородной формой крупных жемчужин.
Имантс взял одну, подержал в руке. Он вспомнил, как Ималда на собственную свадьбу испросила у своей матери ожерелье неблагородного, речного жемчуга да янтарную брошь.
Как светилось от счастья ее лицо! Имантс сжал жемчужину и подумал было отдать ее в церковь, чтобы святые отцы поминали его бедную Ималду каждый день. Потом вдруг передумал и положил обратно.
Он еще какое-то время полюбовался игрой камней и наконец закрыл коробку. Задвинул под кровать и завалил тряпьем. Из-под тряпок послышался характерный писк. Мышь. Имантс поморщился, но не стал ничего предпринимать – просто повернулся к стене и заснул.
Во сне к нему явилась Ималда. Но не та, изможденная болезнью, а другая – молодая и здоровая. Она стояла посреди большого поля – светлые волосы убраны в две косы, как она носила до свадьбы, на голове – венок из полевых трав и цветов, как обычно бывает на празднике Лиго. Она улыбалась ему.
Вдруг он заметил, что на Ималде лишь тонкая, белая, почти прозрачная рубаха, и сквозь нее отлично видно и торчащие соски, и вообще все, до последней родинки.
Имантс протянул к ней руку, но она была такая грязная, что старьевщик, устыдившись, тотчас отдернул ее. Он увидел себя со стороны и поразился: как же он постарел и подурнел!
Но Ималда, похоже, этого не замечала. Она приблизилась к нему и, закинув руки ему на плечи, кинулась целовать – в жесткие, поросшие светлой щетиной щеки, в грязную шею, в хмельные губы.
Имантс пытался отстраниться, но ему не удалось.
«Она – такая чистая, красивая… Как бы не испачкалась», – думал он, с изумлением отвечая на горячие поцелуи Ималды.
Запах ее кожи и волос, юная и упругая грудь вконец вскружили ему голову, и он дал волю чувствам. И те накрыли его с головой. Он испытал во сне сильнейшее потрясение. Такого с ним не случалось при жизни с Ималдой, которая была скромной женщиной, очень ограниченной в проявлении чувств, как все латышки. Бывало, слушая рассказы друзей о распущенных и развратных польках и немках, Имантс даже не раз помышлял изменить жене, но так и не сделал этого.
Ималда была хорошей хозяйкой – это отчасти компенсировало ее холодность. Имантс жил в чистом доме, питался разнообразно – чего же еще желать?!
А потом… она заболела. Имантс не отходил от ее постели – сам убирал, готовил, стирал белье. Правда, он совершенно этого не умел, но старался сделать жене приятное. А она смотрела на него и плакала.
Тогда он садился рядом и спрашивал:
– Дорогая, что-то не так? Почему ты плачешь?
А она:
– Тебя жалко.
Вот такая любовь была. Сама, умирая, жалела его – своего Имантса. Детей у них не было, и Ималда просила мужа не соблюдать по ней траура, а по возможности скорее жениться.
За месяц Ималда изменилась до неузнаваемости – превратилась в страшную, тощую старуху. В конце концов она отказалась от еды и питья – но смерть словно издевалась над ней, желая знать, насколько еще хватит сил этой женщины. Имантс плакал, умолял жену поесть или хотя бы попить… И она сдавалась: пила воду и ела размоченный хлеб.
Доктор, зная о болезни Ималды, не удивился, узнав о ее смерти. Тело не стали тревожить вскрытием и похоронили на следующий день.
На поминках Имантс услышал, как подружка Арниса сказала, что Ималда просила у нее яд – тот, чем травят крыс, но она не дала. Имантс вспомнил, как умирала его жена, и тут же понял: нашелся добрый человек. Пока Имантс ездил по дворам со своей тележкой, чья-то рука услужливо поднесла его жене яд… Он вернулся слишком поздно – и если бы он знал! Глядя на муки умирающей, он сам желал, чтобы все быстрее закончилось.
Имантс злился на себя, на Ималду, на Бога. Плохо спал, почти не ел, не убирал свое жилище. Ему не было сорока пяти, а выглядел он как старый дед.
Но прошло время, и он потихоньку стал приходить в себя. А тут еще брат Ималды, Маркус, приехал навестить – звал к себе, в Вентспилс. И старьевщик решил, что как только появится более или менее приличная сумма, он закроет дело и уедет. А тут такое…
Он лежал на спине, с закрытыми глазами, и видел перед собой переливающуюся гладь моря. В лодке у берега он видел и себя самого, только не старого и запущенного, а счастливого, улыбающегося, молодого. Жена стояла рядом, а на руках у нее был ребенок. Имантс был совершенно счастлив. Его не беспокоил ни дурной запах, исходивший от давно нестираного белья и от него самого, ни мышиная возня под кроватью. Он был готов лежать ровно столько, сколько занимает разум светлая картинка, созданная его воображением.
В дверь тихонько постучали. Имантс не ответил, лишь скрипнули пружины кровати.
Тогда послышался скрип, и быстрая дробь удаляющихся прочь шагов.
«Табуретки и стол все же украли», – с удовлетворением подумал старьевщик и на этот раз уснул как праведник – без снов.
Он открыл глаза, когда солнце уже вовсю буравило стены сквозь щели в ставнях. Имантс, потянувшись, первым делом проверил свое сокровище. Убедившись, что оно не исчезло, он хотел было выскочить во внутренний двор по нужде, как взгляд его упал на картину, лежащую на письменном столе в развернутом виде. На картине сверху лежал свиток с восковой печатью – он схватил его и выскочил во двор, на ходу развязывая штаны.
Справив нужду, старьевщик развернул бумагу. Обычно зрение его не подводило – но тут! Строчки то сливались, то двоились – он никак не могу прочитать и двух слов. Он зашарил по карманам, и, к счастью, лупа была на месте.
Вот что прочел Имантс:
«Было жаль Вас будить, Ваш сон был столь глубок и сладок. Позвольте посетить Вас завтра, в полночь. Я намерен услышать Ваш ответ.
Да или Нет. Третьего не дано.
Ваша душа – не слишком высокая цена за то, что я уже дал Вам и еще предполагаю сделать для Вас».
Подписи не было, но была приписка, сделанная другим почерком:
«Думай, Имантс, но не продешеви на сей раз».
Это была ее рука!
Имантс почувствовал легкое головокружение, сел на кровать. Посидев немного, он встал, подошел к столу и, взяв портрет, снова стал его изучать. Чем дольше он смотрел в глаза незнакомца, изображенного неизвестным же художником, тем сильнее становилась боль в затылке. Изображение плыло перед Имантсом и вскоре слилось в одно неопределенного цвета пятно. Схватившись двумя пальцами за переносицу, старьевщик нащупал другой рукой опору и опять сел. Комната медленно плыла, с улицы доносились обрывки бабьих пересудов, цоканье копыт по мостовой; где-то недалеко бродяга играл на шарманке. Наконец, словно по мановению волшебной палочки, все стихло. Имантс, выходя во внутренний двор, не закрыл дверь, и теперь в проеме показалась чья-то фигура. Сколько он ни всматривался, не мог понять, кто же это к нему пожаловал.