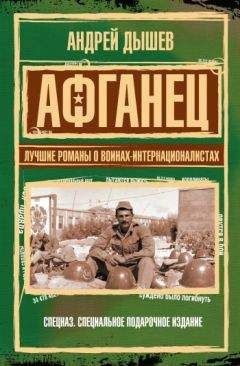Гуля, ангел Валеркин, даже сразу не сообразила, как ей поступить. Безобразие, конечно, это все, но какое забавное безобразие, какое милое, и парни какие хорошие: словами не передать, почему с ними рядом так приятно, так тепло и просто. Гуля зажмурила глаза от собственной дерзости, взяла кружку.
— Ну, ладно. За здоровье. За ваше здоровье…
Выпила, поперхнулась, закашлялась. Увидел бы эту сцену командир, так сразу бы слюной подавился. Медсестра квасит с больными за модулем!
Что-то привязало ее к Валерке. Она восхищалась им. Она видела его полураздетым на перевязках, и ей представлялось, что она видит его душу, такую же обнаженную, очень простой конструкции и очень живую. В нем удивительно сочеталось жизнелюбие с пофигизмом. Он на все смотрел с тем снисхождением, с каким взрослый человек смотрит на заботы и проблемы ребенка. Он ничего не боялся, он словно был бессмертным, как бог, и ему принадлежал весь мир. К своему ранению он относился так, будто его тело было дешевым, но вполне надежным приспособлением, которых в каждом магазине — завались, лежат на полках, покупай не хочу, если надо будет, то поменяю на новенькое; да что ж ты так трясешься над этой раной, да фиг с ней, налепи пластырь и давай лучше о любви помурлычем; какая война? да черт с ней, с этой войной, нашла, чем голову забивать, лучше ответь, знаешь ли ты, как из сухого печенья и сгущенки торт сделать? Тогда слушай, рассказываю… И так с ним было хорошо, так спокойно, так просторно, словно рассыпались вокруг них все стены и препятствия, и повсюду — только зеленые бескрайние поля да голубое небо…
Она влюбилась в него, как идиотка.
Начальник политотдела подослал к ней помощника по комсомолу Белова. Тот, несмотря на свое потное и пахучее телосложение, умел расположить к себе женщин. Отвел Гулю к фонтану, прогнал бойцов, скребущих жесткими вениками по дорожкам, и начал издалека. Вот, мол, приближается ленинский зачет, надо законспектировать работы да выполнить поручения и вообще пора включаться в активную жизнь подразделения, принимать участие в выпуске стенной газеты… давай-ка присядем… и тут еще вот какое дело… понимаешь, здесь ты оказалась не случайно, тебя должны были направить в полковой медпункт в Пули-Хумри. Понимаешь, жуткое место, сплошной тиф и гепатит, жара, пыль, грязь, привозная вода. Понимаешь, молодые женщины там за год в беззубых старух превращаются… Но вот благодаря усилиям Владимира Николаевича тебя, понимаешь, оставили здесь. И теперь он как бы берет над тобой шефство. Понимаешь, здесь женщины сами по себе не могут быть. Восточная страна, и все такое. Здесь женщины должны находиться при мужчине… Так положено. Такая традиция… Вот библиотекаршу знаешь? Так она как бы с Николаем Сергеевичем, ну да, со спецпропагандистом. А начальницу столовой знаешь? Она Рящучка, то есть она с замом по тылу Рященко… Понимаешь, да? А ты, значит, с Владимиром Николаевичем… как бы… Он тебе, значит, всякое хорошее добро, а ты, значит, как бы с ним… Понимаешь, да? И если он тебя приглашает к себе, то отказываться не следует. И ни с кем, понимаешь, любезничать не желательно. А Герасимов, чтоб ты знала, женат, и вообще он человек нехороший, у него потерь много, недавно под Айбаком у него половина роты полегла. На него уголовное дело завести хотели, да пожалели…
Говорит, а сам маслянистыми глазами поглядывает на ее ножки, ручки, пухлыми пальчиками щелкает, изо всех сил старается, волнуется — а то как же! Если бабе мозги как следует не вправит, то Владимир Николаевич ему яйца оторвет, и ни ордена, ни замены в Одесский округ.
— Я подумаю, — ответила Гуля.
— Ага, подумай, — согласился Белов. — Только побыстрее. Владимир Николаевич ждать не любит. И вообще он такой человек, что если кто ему понравится, то это надолго. И если не понравится, то тоже, считай, навсегда… Это я про Герасимова. Не порти парню карьеру. Ты же его подставляешь.
И чтобы как-нибудь смягчить чрезмерную прямолинейность, Белов не по теме добавил:
— Ты в библиотеку еще не записалась? Книжки писателя Василия Белова читала?
— А что, это ваш родственник?
— А то как же!
— Отец, что ли?
— Еще спрашиваешь!
— Правда? — восхитилась Гуля.
Белов врал, к писателю Василию Ивановичу он никакого отношения не имел, но врал мягко, косвенно, подводя собеседников к тому, чтобы они первыми спросили о его родственных связях с классиком отечественной литературы. Вообще помощник по комсомолу любил приврать. Ему не хватало славы и почета. У начальника политотдела он был мальчиком на побегушках, за что его презирали боевые офицеры. Белов страдал, сочинял о себе всякие геройские небылицы и распускал слухи по дивизии. За пределы базы он выезжал всего пару раз и как-то попал под обстрел. Белов ехал в кабине «КамАЗа» и, как только загрохотали выстрелы, сжался в комок, спрятался за бронежилетом, который висел на боковом стекле, сунул голову под приборную панель. В роте сопровождения тяжело ранили солдата. Солдат ехал на бронетранспортере, прикрывал огнем незащищенные «КамАЗы», и пуля угодила ему в щеку, раздробила часть челюсти. Белов позже распустил слух, что во время боя был с тем солдатом рядом и буквально на себе вынес его из-под огня. Потом он красочно расписал этот эпизод в наградном листе. Многие офицеры при политотделе зарабатывали ордена не мужеством в бою, а собачьей преданностью начальнику.
— Что-нибудь случилось, Гуля? — спросил Герасимов, остановив медсестру в коридоре. — Ты уже не приходишь ко мне, как раньше, не разговариваешь со мной.
Она заглянула ему в глаза. Ее взгляд кричал о любви. «Я хочу, хочу приходить к тебе! Хочу разговаривать с тобой! Мне очень трудно без тебя!»
Гуля рассказала ему о разговоре с Беловым. Герасимов повеселел.
— Валера, я боюсь испортить тебе карьеру. Я не думала, что здесь все так… так сложно.
— Погоди, о карьере потом поговорим. Ты мне, пожалуйста, ответь прямо: кого выбираешь, меня или начальника политотдела?
Она ответила. И понеслось. Каждый вечер после работы она из медсанбата приходила к нему. Валера вырыл в кабинете погреб, посадил на петли оконную решетку, выставил в шкафу заднюю стенку и вырезал лаз в перегородке, отделяющей казарму от кабинета. Никто не мог застать его вместе с Гулей в кабинете. Начальник политотдела взбесился. Потом успокоился. И это спокойствие было страшнее, чем бешенство. Полковник хладнокровно продумывал, как он будет гнобить и ломать Герасимова. Для этого у него был весь арсенал средств, какие имеют в своем распоряжении начальники политических отделов во внутренних, «мирных» округах, плюс к этому суперсредство, жуткое чудище, пожирающее людей пачками, этакая геенна огненная — война.
Для начальника политотдела война сидела на цепи. Он знал, что она рядом, но лично ему вреда не принесет — цепь слишком короткая. Но у него была власть отправлять к чудовищу других людей. У него была власть, почти как у бога: ему было дано решать, кого подвергать риску, а кого нет, у кого отнять жизнь, а кому сохранить.
И этот жалкий старлей еще выпендривается???
Чувство тоски и самоуничижения накатывало на Гулю регулярно. Сейчас — особенно сильно, так, что сдавило в груди и стало тяжело дышать. Она встала под кондиционером, подставила холодному потоку лицо, закрыла глаза. Она — лишнее звено, осколок, засевший в человеческой плоти. Она ломает Валерке не только карьеру, она ломает его семью. Парня в Союзе ждет жена. Через пару дней они встретятся, и все встанет на свои места. Настоящая жизнь там, на севере, за речкой. А тут — сплошное сумасшествие, дурной сон, светопреставление. Здесь все ненормально.
Герасимов позвонил ей вечером, ничуть не опасаясь ушей коммутаторщиков.
— Ты почему не идешь домой?
— У меня нет дома, Валера. У меня койка в общежитии.
— Что-нибудь случилось? — после паузы спросил он.
— Ничего не случилось, Валера. Тебе надо готовиться к отлету в Союз. Я не хочу тебе мешать.
Такое уже было. Что-то похожее она уже говорила, когда накатывало в очередной раз. После ссоры они не встречались день, от силы два, потом все возвращалось на свои круги: кабинет (дом), диван из водительских сидений (супружеское ложе), жаренные на электроплитке кабачки с тушенкой (домашняя кухня), и как будто не было проблем, как будто не обречена была на гибель эта наспех сколоченная модель счастливой семейной жизни. Иногда к ним приходил командир взвода лейтенант Саня Ступин. Молодой и незрелый, совсем мальчишка. Ему еще не приходилось прочувствовать войну. Всего раза три ездил на сопровождение колонн, обошлось без обстрелов. Герасимов смотрел на него, и сердце его сжималось от жалости: «Детский сад какой-то, а не офицер!» Выпив с ним спирта, Валера откидывался на спинку стула, макал колечки лука в соль и говорил:
— Ты, Саня, ничего не бойся. Просто иди вместе со всеми и делай, что должен. И не стесняйся спрашивать. У меня спрашивай, у старшины спрашивай. Забей себе в голову: так надо. Не я, так другой. Мы будем делать это. Эта война выпала нам, от нее никуда не деться. Но запомни самое главное. У тебя есть родители, знакомые, друзья, девушки. Им всем будет очень жалко тебя потерять. Помни об этом. Все время помни об этом. Ты понял меня, Саня?