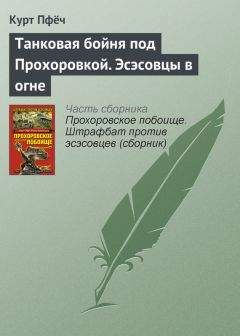Эрнст спокойно продолжал жевать, зажав банку тушенки между колен, а бутылку водки – между носками сапог. Своим традиционным ножом он соскабливал жир из банки, издавая своеобразный, протяжный скребущий звук. Блондин не выдержал и «потерял лицо», стиснул зубы и сжал веки:
– Прекрати, Эрнст! У меня волосы встают дыбом!
– Ничего под твоей каской не вижу. Хочешь еще чего-нибудь?
Блондин кивнул. «Странно, – подумал он, – мы сидим на лунном ландшафте. Позиции, вооружение и люди перепаханы, разбиты и разорваны на куски. А мы? Нас это совершенно не касается и не трогает, не проникает в глубину, остается на сетчатке, мы регистрируем это – и все. Мы сидим во всем этом ужасе, в результате человеческого сумасшествия, и едим! Одного только представления о том, что можно сидеть здесь и есть, достаточно, чтобы вывернуть желудок вместе с желчью наружу, но нет. Ничего подобного. Мы жрем, и нам даже вкусно, и нет никаких тянущих ощущений в желудке! Все, что было раньше, – смыто, словно дерьмо от мух. Все, что еще недавно казалось невозможно себе представить и выдумать, что ни один нормальный мозг не в состоянии замыслить, чуть позже становится само собой разумеющимся. Культура, цивилизация, человечность? Где это? Что это? Нескольких недель ползаний и гусиного шага по казарменному плацу достаточно, чтобы свести десяток лет воспитания к нулю. Если после этого еще и остается что-нибудь, то об этом позаботятся снаряды. И они позаботятся об этом основательно, как если бы это был гениальный эксперт по муштре. То, что раньше было мечтой, теперь стало кошмарным сном, только мало кто замечает, насколько ужас стал обыденностью. Черт возьми, до чего может дойти человек! До собаки? Чепуха! Собака поджала бы хвост, увидев горящий танк и почуяв запах горелых ошметков экипажа, и убежала бы туда, куда ее унесли бы ноги. А мы? Мы таращим глаза на обгоревшие трупы, тупо, совершенно нетронутые тем, что это были люди, чьи-то отцы и дети, смотрим и жрем и наслаждаемся вкусом говяжьей тушенки на языке. А что будет дальше? Что будет с теми, кто переживет это сумасшествие? Снова будут вести нормальную жизнь? Работать по гражданской профессии? Плодить и воспитывать детей? С этой грязью и сумасшествием в животе и голове? Можно ли все это потом просто стереть из памяти? Можно ли будет все это забыть? Черт возьми, что они из нас сделали?»
– Снова мечтаешь, Цыпленок?
Блондин улыбнулся:
– Просто не могу бросить, Эрнст. Только постоянно возникают новые вопросы, а ответов на них нет.
Медленно стало смеркаться. В воздухе висел запах гари. Затарахтел пулемет, очереди пролетели высоко. Отделение разместилось в русском танковом окопе. Куно и Камбала были назначены в караул. Расчеты пулеметов улеглись, словно тройняшки. Ханс отправился к командиру взвода.
Блондин лежал, растянувшись на спине, штурмовое снаряжение – под головой, вместо подушки, руки – на животе, и смотрел в небо. Эрнст курил и использовал свой баварский нож в качестве зубочистки. При этом он пару раз чиркнул по зубам, хлопнул ладонью по плечу Блондина и проворчал:
– Спи, я тебя потом разбужу в караул.
Он повернулся на бок, выругался, когда наткнулся на лопату, и через несколько мгновений тихо захрапел.
Блондин был бодр, при этом на редкость спокоен, внутренне решителен и свободен от каких бы то ни было проблем с желудком. «Странно, – думал он, – действительно хорошо лежать вот так. Прекрасный летний вечер. Земля теплая, а звезды – словно бы вырезаны из золотой фольги и наклеены на черную плоскую безграничную поверхность. Плакатно, фантастически, словно в книге сказок. – Он улыбнулся. – Всегда, когда начинаю думать, мысли беспорядочно лезут мне в голову. Я начинаю все со смешного слова «странно». Уже в школе было так. Если такое было на письме, то я мог исправить. А когда говорил, то должен был напрягать внимание, так как учителя не понимали «странных» формулировок. Еще меньше их понимали в «ЛАГе». Там не было ничего «странного», по крайней мере, для тех, кто хотел что-то сказать. Для других, маленьких заправщиков постелей, было много «странного», часто настолько много, что их тошнило от «странности». Как тогда, при моем призыве – тоже было странно, но не для меня!»
В Берлине я переночевал у тети, а на следующий день она со мной поехала в Лихтерфельде. Перед воротами казармы стояли и ждали коротко остриженные гражданские с чемоданами и картонными коробками. На проходной кто-то кричал, но мне не было видно, кто и почему. Моя тетя спросила, что там происходит, у лейб-гвардейца, приехавшего с нами в трамвае, где он стоял прямо передо мной, и я не сводил глаз с черной ленточки на его рукаве с вышитым серебром именем Адольфа Гитлера. Он усмехнулся и сказал:
– Это формула приветствия.
– А почему они там так кричат?
Длинный снова усмехнулся:
– Это обычный тон, госпожа! Как вы думаете, как они могут расти?
Когда я наконец подошел к проходной, у меня возникли проблемы с предписанием. Чемодан в одной руке, картонка – в другой, а проклятое предписание – в нагрудном кармане рубашки. Я хотел поставить багаж, чтобы достать документ, но кто-то в стальном шлеме закричал:
– Налево и вон отсюда. Ну, вы, недотепа! Возьмите чемодан на вытянутые руки перед собой и качайте! – Странный набор слов, из которого я мало что понял. У монументальной фигуры роттенфюрера несколько гражданских гнули колени, судорожно удерживая чемоданы на вытянутых вперед руках. При этом они считали. Что, и мне тоже? У кричавшего на меня я видел только широко открывавшийся рот, бегающий кадык и над всем этим – стальной шлем. Когда я попытался сделать первое приседание, я услышал голос моей тети, типичной берлинки, смелой и лишенной чувства какого-либо почтения:
– Вы получили предписание у моего племянника или нет? Ах нет!
А когда тот, в стальном шлеме, хотел ее прервать, послышалось:
– Не разоряйся, мужчинка! Вы мне не нравитесь, а малыш – еще не солдат!
А мне крикнула:
– Прекрати!
Я беспрепятственно прошел через ворота. За решетчатой оградой и монументальной стальной фигурой роттенфюрера потом я впервые узнал, что такое «качать на вытянутых руках», и проклинал свой такой тяжелый чемодан. Тот, в стальном шлеме, прозвал меня «племянником» и дал мне дельные начала, чтобы в будущем я стал экспертом в области «качания». Он был первым служащим «ЛАГа», который заговорил, нет, скорее заорал со мной. Я тогда подумал, что эта орущая обезьяна – исключение. Но я ошибался, ошибался коренным образом.
Блондин потянул воздух сквозь зубы: «Племянник! И мой друг унтершарфюрер Ауэр!» Якобы с высшим образованием. В любом случае слыл за такого. И это было самое главное. Он был настолько уверен в себе и в уровне своего образования, что всех других считал профанами, особенно – рекрутов, те вообще были дерьмо. Его высокомерной роже соответствовал и голос: тихий, издевательский, надменный:
– Прииижаааать! Господа! Прижать – не имеет ничего общего с вашими подростковыми фантазиями! Винтовку прижать, а не стучать ею по плечу! Если хотите стучать – то большими пальцами! Стучите своими лапами по прикладам, чтобы казарма зашаталась!
Его слова были тщательно подобраны, продуманы и проговорены. Его интонации превосходны. Его методы подготовки – интеллектуальны. Самодовольно улыбаясь, он прислонялся спиной к стене и, растягивая слова, отдавал свои команды:
– Счё-ооо-от три! Сче-ооо-от три! Счео-о-от три!
Никак он не хотел заткнуться.
– Вольно! Когда я снова скажу «счет», тогда вы становитесь на колени. Ясно? На «три» вы вскакиваете, как будто вас кто-то уколол в зад, и резко прижимаете винтовку к плечу. Позднее последует приказ: «На плечо!», но до этого еще долго. Итак, прижать! И если вы стоите, бьете в тот же миг левой рукой по прикладу и держите его! Ясно? Итак, начали сче-о-от…
Нас тренировали. Мы были специалистами, так называемыми специалистами по качкам, и несколько десятков приседаний были для нас пустяком. Приседания стали для нас ежедневным хлебом, наряду с искусственным медом и эрзац-кофе. Но руки – руки слушались все хуже. Они немели, начинали дрожать, винтовка становилась тяжелее мешка с цементом, несмотря на счет «три», винтовка не соскальзывала к плечу, а била по нему до синяков! Большой палец левой руки был не лучше, распухал и становился болезненным. Молодцеватые хлопки все больше превращались в усталое удерживание. «Академик» Ауэр констатировал явления усталости с мягкой улыбкой и изменил свой метод. Он стал беречь свой голос, заменив команды свистком. Длинный свисток означал «счет», а короткий – «три». Когда и это уже не помогало, он легонько оттолкнулся от стены и прошептал:
– Глупость – плохо, леность – тоже. Но глупость и леность вместе – это преступно! Вы не должны делать брачных движений, господа, а усердно овладевать приемами! Втяните, пожалуйста, ваши задницы, господа! Приказа заниматься постельной гимнастикой не было, однако была команда «счет – триии»!