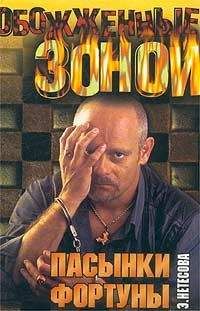— Так как его в поселке жить оставили? Иль не знают о нем? — допытывался Огрызок.
— От них никто не скроется. Это уж точно. А про Чубчика я раньше узнал, чем в другой раз увиделись. Он, каналья, хитрей всех в свете оказался. А может и впрямь после того, как я его с избы в пургу не выкинул, сам сердце у себя отыскал. И снова в человеки вернулся. Потому судьба пощадила его.
— А как ему удалось на воле остаться? — терял терпение Огрызок, ругая про себя стариковскую болтливость.
— Господь его увидел. И направил его от меня не той дорогой, что от зон к Магадану идет, а выработками, дорогами лесорубов, какие меж собой короткими путями связали поселки наши. Он и шпарил по ней, зная, что милиция на машине не проедет там. А люди в такую пургу по домам сидят. Кому охота подыхать от холода?
— Его не нагнали?
— Что ты, милый? Он же, почитай, на целые сутки раньше властей ушел. А дороги тутошние знал, потому как привелось ему их прокладывать. Заключенные, сам знаешь, Колыме — хозяева. Вот он и попер без оглядки. Мужик здоровый. Это даже мой медведь знает. Но не доходя до поселка, хорошо что светло еще было, разглядел впереди себя сугроб. Ничего особого в нем небыло. Таких на Колыме — прорва. Но из того сапоги торчали. Наполовину. Ну, а Чубчик — вор! Ухватился, мол, не пропадать же добру! И дернул. А из сапог ноги выскочили. Чубчик — мужик бывалый, но и у него все, что на макухе уцелело, дыбом встало.
— Это с хрена ли? — не поверил Кузьма.
— Так ноги те — бабьи оказались…
— Мало ли он их видел? Сколько повыдергивал из жоп, у меня столько волос не сыщется, — хмыкнул Огрызок.
— То до тюрьмы. А тут дело другое. Себя недавнего вспомнил. Решил судьбу не гневить. И в благодарность за свое спасенье выкопать бабу. Ну, скажу тебе, чуть руки он не отморозил, покуда вырвал ее из снега.
— Чё толку? Дохлая баба, как крапленые купюры! Одна видимость, — отмахнулся Кузьма.
— Еще живая! Верней, не дал ей помереть. Успел. Кой-как, где волоком, на плечах — приволок ее в поселок. И к дому, где она жила. А баба ноги не могла двигать. Языком еле ворочала. Позвала к себе. Он — ни в какую не хотел. Та уломала. На то они бесовки, бабы. Он зашел на минуту, — усмехнулся старик.
— А милиция? — удивился Огрызок.
— Ай, да, запамятовал! Власти его сыскали вскоре. Но… Чубчик и сам чуть не рехнулся. Не просто бабу — участкового уполномоченного милиции от верной погибели спас… Так-то вот!
Огрызок онемел от удивления: Чубчик спас лягавую!
— Туфта! Чистейшая липа! Прикнокать мог! Это верняк! Но спасти мусориху? Такое по бухой не сочинишь. Лафо берешь на понял? — хохотал Кузьма.
— Мне, старому, грех брехать! Да и к чему? Она мне — не родня, он — тоже!
— Чубчик дал дышать лягавой? Нет, это «липа», «утка» чистейшей воды!
— не верилось Огрызку.
— Когда он ее с сугроба вызволял, у нее на лбу печати не было. Не знал. Она потом сказала, где и кем работает. Да ты ее недавно видел. Помнишь, баба приходила? О тебе спросила. Я и ответил: ослобонившийся. У нас ведь погранзона, всяк человек на учете. И она о каждом знать должна. Работа такая — беспокойная, тяжкая, — вздохнул лесник и добавил: — Ты еще спросил, что за баба, стоит ли к ней подвалить? Я и ответил, что она — мужняя. Сурьезная женщина. Шалостев себе не дозволяет.
— Что? — поперхнулся Огрызок глотком воздуха, помотав головой и откашлявшись, переспросил: — Она — жена Чубчика?
— Самая что ни на есть, — подтвердил хозяин догадку Кузьмы.
«Мать твою в сраку, если фартовые баб заимели, куда ж «малины» смотрят? Иль закон посеяли? Пахан в откол слинял! И все у него в ажуре? Никто его ни на разборку, ни на сход не выволок! Это что ж творится? А с кого я теперь свою долю сниму? Он же ее, верняк, прожопил? Выходит, я на халяву ходку тянул? Ну уж хрен в зубы!» — думал Огрызок, мусоля изжеванную папиросу.
— А ты знал Чубчика, как я погляжу? — спросил лесник улыбчиво.
— Давно. Много лет с тех пор прошло. Целая ходка. Это все равно, что десять жизней на воле прожить. Теперь, коль доведется увидеться, не узнаем друг друга, — ответил Кузьма.
— Его и впрямь не признаешь. Даже меня сумленье взяло, когда свиделись. Тряпье мое вернул. С извиненьем. И напомнил про себя, гостя из пурги. Век бы не подумал, что так меняется человек. Вот тогда мы с ним и поговорили. По-людски. Без страху и помех. Много он про себя поведал.
— Пофартило ему, гниде недобитой! Знал, кому трехал, баки заливал! Да ежли он, сука, флиртует с лягавой, дышать ему недолго! Это мое слово!
— побагровел Огрызок.
— Это ты что вздумал? Я тебя от погибели принял, держу в доме, как человека, а ты грех затеваешь? Иль свое запамятовал? Мало горя выпало? Либо судьбина не изломала вконец? С чего лютуешь? Еле отдышался, а уж чьей-то погибели желаешь? А кто такой? Уж не за то ли Господь наказал, что сердце, как псиный хвост, репьями заросло? Нет бы радовался, что уцелел в пургу, выжил, дай еще, чтоб другие мучились, жили по-твоему? Указка засратая! Я об тебе сына просил. Жизнь твою хотел наладить. Да только верно сказывают — горбатого могила исправит. А коль так — уходи с моего дома! На вовсе! Чтоб нога твоя мой порог не переступила больше! Ни знать, ни видеть не желаю! Вон отсель! Пес шелудивый! — разошелся, вскипел старик.
Огрызок уже и сам пожалел о сказанном. Но лесник не хотел слушать извинений. Негодовал громко, буйно. И о примирении думать не желал.
— В моей избе, при иконах богопротивное нес! Кары не боялся, греха! Заплевал свое спасенье! Кто ты есть после всего, как не отродье сатаны? Ступай живей от меня! — торопил собиравшегося Кузьму.
Тот не заставил долго ждать. Вскочил в сапоги и, ухватив саквояж из угла, ушел из зимовья, забыв поблагодарить деда за приют и заботу. Огрызок вышел на трассу и увидел вдали сверкающий огнями поселок. В сумерках он виделся особо приветливым, добрым, словно взятым взаймы у детского сна. Кузьма торопился. Пока шел тайгой, холод казался терпимым. Здесь же, на трассе, мороз как озверел. Вокруг ни ветерка, ни дуновенья. И лютая стужа взяла в тиски единственное, что посмело бросить ей вызов — человеческую жизнь…
Кузьма шел ровным размашистым шагом. До поселка — километров шесть. Их легко одолеть. В тайге много труднее пришлось. Приходилось на ходу ориентироваться. Шел на шум редких машин, проходивших по трассе, на запах соляра, бензина — с дороги. Шел еле угадываемыми тропами, в которых и лесникам немудрено заблудиться, запутаться.
Огрызок теперь ускорил шаги и почти бежал по трассе. Мороз гнал его в шею все быстрее. Грозил живьем сковать. А Кузьме хотелось жить. Он бежал вприскочку, чтоб не замерзли вконец онемевшие колени. Мороз давно подошел к пятидесяти градусам и изо рта человека вырывающийся пар тут же смерзался в мелкие ледяные иголки, падал на грудь. Он отряхивал сверкающие искры, а они налипали вновь тонким слоем.
Огрызок был не новичком на Колыме и знал, что таким убранством север награждает лишь тех, кого решил навсегда оставить в своем сердце, лишить жизни.
— Ну уж хрен в зубы! Я хоть и Огрызок, но на халяву откидываться не стану! — крикнул он темнеющему небу, погрозив маленьким жестким кулаком. Было всего три часа дня. Кузьма знал, что в полярную ночь, а она была теперь в полном разгаре, темнота наступает рано и скоро.
До поселка оставалось не более трех километров. И Кузьма спешил изо всех сил. Он был уверен, что там живо оыщет Чубчика, найдет у него пристанище, тепло.
Да пусть только попробует выкинуть меня из хазы! Я ему напомню, кто он есть! Не просто приморюсь, а перекантую зиму. И лягавую под жопу налажу, чтоб фартовому мозги не сушила. Файно задышим. А весной, чуть теплее станет, махнем в гастроль. На материк! Тряхнем кубышки на рыжуху! Без дел вовсе прокисли. Да и Чубчику теперь не до выбора, кентов не густо. Сел на подсос, коль к лягавой приклеился. Теперь он на мослы встанет, чтоб я фартовым не вякнул, как он нынче дышит. Его, задрыгу, пронюхают кенты и вмиг пришьют. За честь обосранную. Замокрят в честь «малины». Он-то про все должен думать. А коль дышать хочет, фертом завертится вокруг меня, падла!» — думал Кузьма.
Эти розовые мечты помогали Огрызку шагать по трассе, осиливая холод, сгустившуюся над головой темноту. Она в минуту скрыла из виду обочины и весь путь до поселка.
Две машины прошли мимо Огрызка, не пожелав подвезти человека, проскочили на скорости.
— Чтоб вам накрыться, не дохиляв до хазы, мандавошки! — заорал Кузьма и почувствовал резкую боль в пояснице.
Она сковала мужика, согнула в коромысло среди трассы. Ноги вмиг отказались слушаться, задрожали, ослабли, того и гляди — подкосят тело. А на пустой дороге в лютый мороз и не у таких, как Кузьма, отнимала жизнь и силы колымская трасса.
— Сучий потрох! — ухватился за спину Огрызок, вспомнив недобрыми словами рудник, где, проработав много лет, получил вместе со свободой хронический радикулит, обострявшийся всегда некстати.