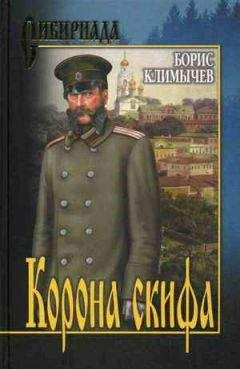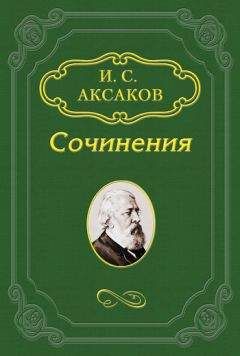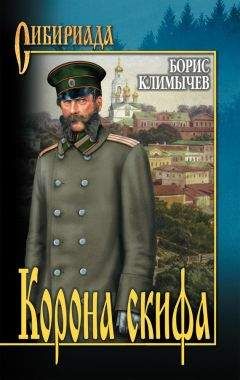— Откуда же мне знать? Когда я имел честь с ним познакомиться в Петербурге, он служил в сибирском комитете. Мы виделись с ним всего один раз, и он тогда и дал мне рекомендации. Но все мои документы странным образом утрачены.
— Интересно и даже очень. Как вы говорите, звали купца на пароходе? Лошкаревым Ильей Ивановичем? И это тоже очень интересно. Сейчас вас проводят в соседнюю комнату, там угостят хорошим обедом, вы ведь голодны?
— Да очень, очень! — ответил Улаф.
— Прекрасно! Значит, не страдаете отсутствием аппетита, это приятно слышать. Кстати, вы, наверное, и раньше бывали в России? Вы хорошо говорите по-русски, никогда не подумаешь, что вы швед.
— Я говорю хорошо на многих языках! — не без гордости ответил Улаф. Желудок его пищал и сокращался, и приказывал забыть обо всем на свете, кроме еды. На что, в самом деле, знание многих языков, если желудок от голода почти уже ссохся?
В другой комнате, был такой же стол, такие же прибитые к столу табуретки, такие же решетки на окнах, там конвоир усадил Улафа за стол и попросил немножко подождать. Улаф Страленберг облокотился о стол и немедленно уснул. Он не понял — сколько проспал, очнулся он, почуяв восхитительный запах: перед ним на столе были тарелки с гречневой кашей и отварной телятиной. Еще был самовар, сахарница и щипцы, и калач, повешенный на кран самовара.
Наевшись до отвала, Улаф, было, вновь заснул, но его тотчас разбудили.
Он с ужасом подумал, что его могут вновь упрятать в ту яму, из которой он нежданно-негаданно выбрался.
— Куда меня? — спросил он конвоира. — Меня выпустят?
— Увидишь, — только и ответил тот.
Улафа поместили в тесную камеру. Но это была комнатка с окном, пусть и зарешеченным, и здесь были сделаны нары, и можно было прилечь, а главное — он здесь был один.
В яме Улаф набрался вшей и блох, они теперь немилосердно грызли его. Он подумал о своих страхах, в те дни, когда он собирался в неведомую Сибирь. Тогда казалось, — придется сражаться с медведями, росомахами, ездить на оленях и собаках, есть сырое мясо. Может, встречаться с теми людьми, о которых толковала матушка.
Но где они, люди на одной большой ноге и с двумя ртами? О, как наивны мы бываем в наших мечтах! Действительность всегда бывает куда проще их и в тоже время сложнее и страшнее!
Улаф кое-как дождался утра. Принялся стучать в дверь, крича:
— Я шведский ученый! Я королевский подданный!
Ответом было молчание. О нем как бы забыли. Но на следующий день его опять провели в комнату к человеку в гороховом костюме. Человек этот улыбнулся:
— Мы навели справки: Герман Густавович действительно принимал участие в вашей судьбе. Мы, господин Улаф Страленберг, сожалеем о том, что случилось с вами. Но, согласитесь, вы во всем виноваты сами. Разве нужно было молодому человеку вашего звания распивать наливку с совершенно неизвестным вам простолюдином? Кстати, никакого купца Лошкарева в Томске нет, и никогда не было.
В момент вашего ареста у вас не оказалось документов, и откуда мы могли знать — кто вы такой? Сибирь кишит беглыми каторжниками и проходимцами разного рода, и мы советуем вам впредь быть осмотрительнее.
Человек в гороховом костюме выдержал долгую паузу, оценивающе разглядывая Улафа:
— Вы оказались в отчаянном положении, но мы вам поможем. Я дам вам адрес вашего соотечественника, но прежде чем вы отправитесь к нему, вы должны будете помыться в бане и переодеться во всё чистое. Баня у нас, конечно, не такая, как в Стокгольме, но всё-таки.
После того, как вы примете приличный вид, мы вам дадим деньги на извозчика и отпустим на все четыре стороны. Но господь вас сохрани, господин Улаф Страленберг, рассказывать, кому бы-то ни было, что вы были в гостях у нас! Если вы это скажете, хотя бы даже и не человеку, а дереву в лесу или птичке на дереве, вы тотчас же очутитесь в таком месте, из которого вас сам губернатор не вызволит. Кстати, не беспокойте Германа Густавовича, он теперь занимает слишком большой пост и очень занят. Повторяю: никто не должен знать, что вы здесь были…
Господин в гороховом костюме улыбнулся, и бедному Улафу, показалось, что он увидел те же желтые клыки, с которыми познакомился в страшной и смрадной яме. Он внутренне содрогнулся, но постарался не показать вида и с нарочитым спокойствием ответил:
— Я сделаю всё так, как вы мне посоветовали.
Ну, вот и отлично! — воскликнул этот господин, пожимая Улафу руку, — желаю вам самых блестящих успехов в химии и физике, в которых я совершенно не разбираюсь! Но зато, поверьте, свою науку я освоил очень хорошо!..
Тот же конвоир провел Улафа в тюремную баню. Она была невелика, но была тут нагретая вода, были и мочалки. Улаф разделся, налил в тазик воды и со страхом увидел, что конвоир тоже разделся и приближается к нему:
— Что вам угодно?!
— Вашей милости не нужно беспокоиться, — успокоительно сказал конвоир Маметьев, — мне велено хорошенько помыть вас.
— Что вы! Я не маленький, я сам!
— Приказано, барин! Ты уж не ерепенься…
Конвоир намылил мочало и яростно принялся тереть Улафу спину, причем тот вздрагивал и ожидал самого худшего. Но ничего плохого на сей раз не случилось.
В предбаннике конвоир, которого, как выяснилось, прозывали Гаврилой Гавриловичем, подал Улафу пакет с белоснежным бельём, потом подал на плечиках гороховый костюм, точно такой, какой носил допрашивавший Улафа Страленберга господин. Улаф спросил — нельзя ли ему подать костюм иной расцветки, на что Гаврила Гаврилович строго ответил:
— Бери, барин, чего дают…у нас не хранцузский магазин! Вот рубль вам велено выдать, вот адрест, куды вам ехать, идем, скажу часовому, что выпустить велено…
И вот Улаф снова оказался на свободе, солнце ярко светило, одуряюще пахло цветами, только что пролил молодой дождик, и канавы, и ручьи забурлили сильнее, мать-мачехи и подорожники и прочие растительные существа стали еще зеленее и глянцевитее, и радовались жизни. Деловитая пчела сладострастно погрузила свой хоботок в пунцовый плод шиповника.
Улаф вдохнул полной грудью. Он был молод и потому сердце вновь наполнилось надеждой на что-то светлое, хотя у него на лбу заметно прибавилось морщин. Он об этом не знал, так как еще не смотрелся в зеркало. Седина же ему не грозила по той причине, что волосы его от рождения были совершенно бесцветны.
На верхней Елани, возле недостроенного собора, по ночам квакали в болотах лягушки. Собор начали, было, строить, заложили фундамент с глубокими подвалами и подземными переходами, возвели стены, начали выкладывать купол, и однажды купольная часть с грохотом рухнула.
Собором хотели удивить всю Сибирь. Он был копией московского храма Христа Спасителя, созданного архитектором Тоном, но уменьшенной копией, конечно. Даже на малую копию у Томска силенок не хватило. Заложили собор в 1845 году, а в 1850 произошло несчастье на стройке. Поспешишь, известно, людей насмешишь. А томичи поспешили. Кирпич делали, — спешили, уже и обжигали кое-как, не по правилам, извести переложили, строили и в дождь, и в лютые морозы. И прошла трещина великая по стене снизу доверху. Думали её заложить кирпичом, замазать, но сперва надо было купол возвести.
В то лето множество народа приходило на стройку, взбирались по сходням на леса, по трапам лезли под самый купол, который каменщики уже завершали выкладывать. Ура! Новый собор готов!
Да ведь как наверх не лезть? Придешь домой, да похвастаешь:
— С нового собора смотрел. Далеко видно! Внуки завидовать будут. История!
Вот и посмотрели! Шестерых насмерть придавило. Строителей Бог пощадил: вакурат слезли с лесов, чтобы отдохнуть, пообедать.
Когда, с грохотом, купол обвалился внутрь, и часть стены рухнула, поднялось облако пыли, с воплями и стонами приходили горожане к этому месту. Картина разрушения потрясала. Сколько пропало трудов, железа, извести, кирпича! За какие грехи? Неужели томичи грешат больше, чем жители других городов? Не может быть! Москва — это же Содом и Гоморра, по сравнению со славным сибирским городом. Нет! Тут какая-то неизвестная причина есть.
И потянулись годы, на площади торчало не то, ни сё. Развалины, мерзость, запустение. А мечталось-то о светлом, добром, красивом.
Купцы порастрясли с этой стройкой изрядные денежки, больше никто их давать не хотел, или не мог, что почти одно и тоже.
Иногда говорили, что бог не согласился с тем фактом, что храм возводился на неправедные деньги, вот и бабахнул пальчиком по храму. Ишь, толстопузые! Обвешивали, обмеривали, а потом решили от грехов этим храмом отмазаться. Не вышло!
Выдумывали всякое. Но время шло, а храм не достраивали, снег и дождь вели разрушительную работу, в вырытых при строительстве храма яминах образовались озера и болота, ибо рядом протекал один из рукавов речки Еланки. Вот и лягушек развелось великое множество, и закатывали они свои концерты теплыми лунными ночами. И метали икру, и вообще занимались своими лягушечьими делами, очень довольные тем, что люди отступились от этих мест, не приходят, не шумят.