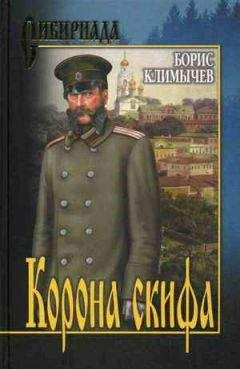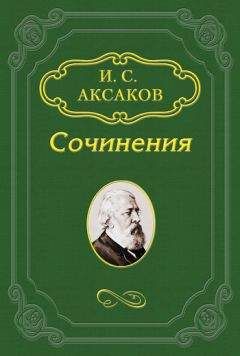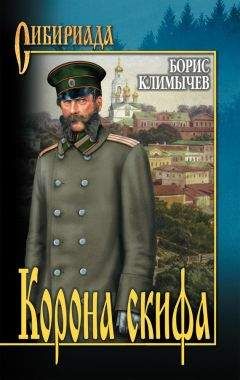Огорчались по поводу недостроенного храма более всего верхнееланские старушки. Ведь так было бы здорово: самый главный храм — неподалеку от дома был бы. А тут тебе — и Епископ сам, тут тебе и хор самолучший. А пока главным собором служит церковь на Уржатке, далековато, туда не находишься.
Кого не спрашивали старухи, — никто им толком не мог сказать, будут ли храм когда-нибудь достраивать? Почему его забросили?
И когда проезжал по городу в своей карете граф Разумовский, они закричали ему со своих лавочек:
— Остановись, батюшка!
— Смилуйся, поговори с нами, грешными!
А карета у Разумовского была необыкновенная. Она вся сверкала и искрилась на солнце так, что на неё было больно смотреть.
Вся окрестная ребятня собирала по улицам осколки бутылок, посуды, зеркал, золотистые и серебристые обертки от конфет. И всеми этими богатствами челядь графа оклеивала его кареты, при помощи необычайно цепкого рыбьего клея, который зовется карлуком. Здесь было много фантазии и вкуса.
На Нечаевской за зимними казармами у графа был дворец, деревянный, но фронтон его был украшен гипсовыми богинями.
Рядом размещалась синагога для солдат-евреев, да была тут же школа-хедер. Еврейчата иногда дразнили графа: " Разумовский соседскую курицу съел! "Граф ловил чертенят за пейсы, снимал штаны и совал туда крапиву. А то уши крутил. Хотя всё равно вся улица знала, что водилось за графом такое: подманить на рассыпанное пшено чужую курицу с улицы, да свернуть ей голову.
В графской усадьбе в многочисленных избушках и флигельках, при маленьких огородиках, где цвела картошка, и дразнил зелеными перьями, и приглашал немедленно изготовить из него окрошку, жирный и сочный лук, жили женщины-приживалки.
Непонятно откуда пришли они, большей частью немолодые уже, намучившиеся в жизни, где-то потерявшие свои семьи, а может, никогда их и не имевшие. Были они в большинстве своем хромые, косые, убогие.
Но было среди них несколько более молодых и менее безобразных. И эти, время от времени, рожали то мальчика, то девочку — непонятно от кого: мужчин, кроме древнего старца, который был у Разумовского и конюхом, и возницей, в усадьбе не было. Могли, конечно, в темноте-то ночной и солдатики-касатики в усадьбу забредать. Может, их работа?
Сам Разумовский отметил свой семидесятилетний юбилей, потому его отцом этих детишек людская молва сначала не нарекала. Но когда мальчики и девочки в усадьбе подросли, стало ясно, что почти все они и глазками и носиками напоминают Разумовского. И томичи в удивлении и с оттенком восхищения восклицали: "Ай да граф!"
Впрочем, город попривык уже ко многим необыкновенным качествам этого человека. Он был для горожан развлечением, достопримечательностью местной, его с гордостью показывали приезжим. Его и побаивались. За злой язык. Мог привязаться невесть к чему и наговорить такого, что уши краснели. Краснобай!
Теперь, услыхав вопли старух, он дал команду вознице остановить карету. С запяток её соскочили два причудливо одетых мальчика, своими бездонно-голубыми глазками и длинными носиками очень похожие на своего властелина.
Мальчики изображали форейторов. На них были бархатные береты с перьями, странные камзолы, обшитые, где можно и где нельзя, золотыми лентами, красные штаны, белые чулочки.
Мальчики распахнули дверцу и помогли графу выбраться из кареты.
Он вразвалочку подошел к лавке, на которой сидели старухи. Его мундир был шит золотом, через плечо у него была андреевская лента, и орден Андрея Первозванного. Все в городе уже знали рассказ графа о том, что он был фаворитом Императрицы Елизаветы. Она пожаловала ему эту высшую награду.
— Что звали?
— Скажи нам, графушка, почто собор-то не строят?
— Ах, вы клуши! Вам-то что? Если и строить начнут, ваших грехов вовек не замолить, уж я вижу по вам. Помои хлещете прямо на улицу, где это видано? Вас бы в каторгу всех! А не то, что собор вам!
— А куда же девать их, мыльные-то помои, графушка? Зимой на усадьбе льем, во время таянья все вода унесет, а сейчас нешто нам огород гнобить? Дороге от помоев ничо не сделается. Небось, пыли меньше станет…
— Вот и поговори с вами, вам говоришь, стрижено, а вы брито. Это вот так жена с мужем спорили. Она говорит, стрижено, он — брито. Спорили, спорили, он её схватил, камень на шею привязал, и в омут бросил. Она уж с головой в омуте, но руку вытянула, пальцы из воды высунула и показывает: стрижено!
— Ты, батюшка, не шути, если знаешь что про собор, скажи, будут его достраивать? Нам ведь до Уржатки скоро и не дойти будет, чай, силушки с годами всё меньше, ноги опухают.
— Нет, девки, и не ждите, не будут достраивать.
— А чего ж так? Али купцы боятся еще мошной тряхнуть? Пусть бы подписку объявили, всем миром по полтине, по гривеннику…
— Сказано не будут строить!
— Да почему же?
— Дело простое, видите чего там, в болоте наросло? В тех болотных травах коркодил живет. Смотрите, вечером близко не подходите, упаси бог. Сожрет и не подавится.
— Да правда ли, графушка? Власти-то куда смотрят?
— А чо они сделают, кому охота, чтоб его сожрали?
— Страшное ты говоришь. А каков коркодил этот из себя? И как ты его рассмотрел?
— Да, как? Подозрительная труба у меня есть. А хоть бы и не было. Я к нему и близко подхожу — не трогает.
— А с вида он, как толстая змея, но с ногами. Короткие ноги, торчат в разные стороны. Зубы, как у пилы, треугольные. У него один зуб железный, другой костяной, третий золотой, вперемешку. Если грешника жрет, золотой зуб сияет, если праведного ест, зуб чернеет.
Ему неохота с черными зубами ходить, он праведников и не трогает. А вот вы возле развалин не валандайтесь. Коркодил вас не пощадит, враз слопает за грехи ваши тяжкие.
Разумовский собрался, было, сесть обратно в карету, но зловредная вдова пожарника Самойлиха вслед ему сказала вполголоса:
— Еще грехами нас попрекает, сам чужих кур ворует, курощуп…
Разумовский вернулся, попытался вытянуть саблю из ножен, но не вытянул
по той причине, что в ножнах у него был лишь обломок сабли, но об этом знал лишь он сам, а люди видели красивый эфес.
— Мне кур воровать нужды нет, я сам яйца несу, самолично.
— Что ты их носишь, это мы знаем, — отвечала Самой лиха, — да только на Пасху красишь или нет, нам неизвестно.
— Хотите, прямо при вас снесусь?
— Ну, уважь, графушка, позабавь.
Разумовский нажал ладонями на живот свой, вытаращил глаза, изо рта у него показалось куриное яичко, он достал из кармана большой шелковый платок, прихватил им яйцо, и положил в карман. Тут же вновь надавил на живот, изо рта показалось второе яйцо. Так повторил он несколько раз. И сказал:
— Видали? Я за минуту себя яичницей семиглазой обеспечу, так зачем мне кур воровать? Вот и не болтайте…
Довольный произведенным эффектом, Разумовский пошел к карете. Он влез в распахнутую для него дверцу, поставил саблю меж ног, и крикнул кучеру:
— Поняй!
На лавке разом загалдели. Родилась новая городская легенда. Кто мог знать, что Разумовский высовывал изо рта, надетую на язык половинку яичной скорлупы. Доставал из кармана платок, в который было завернуто яйцо, подносил его к губам, одновременно втягивая язык со скорлупой обратно. Всем казалось, что он вынул яйцо изо рта, прихватив его платком. Можно было это повторять до бесконечности. Но зачем?
Город благоухал цветеньем, тополя млели от собственного зеленого сладкого клея. Березы готовы были каждому отдать свой светло-желтый сок, только воткни под кору соломинку. Пичуги всех размеров и расцветок сходили с ума от щебета и песен. Аромат, аромат!
Даже древней Самойлихе захотелось чего-то романтического. Она вспомнила, что видела в болотистом озерке возле развалин собора голубоватые и желтоватые кувшинки, лепестки которых были покрыты нежнейшим пушком. Так захотелось нарвать их да поставить в кувшинчике на стол в горнице. Но чтобы нарвать кувшинок, пришлось бы лезть в воду, раздеваться, не дай бог, кто увидит это!
Самойлиха дождалась темноты, взяла кувшинчик, вышла, даже не скрипнув калиткой, увидела в небе полную луну, сиявшую холодным восхищением. В тяжелое, размягченное жиром и болезнями тело Самойлихи пролилось от луны глубокое сожаление о давно забытых сладких обмираниях предчувствия любви. Как быстро всё пролетело! И ничего нельзя вернуть, воскресить. Сама когда-то была свежа и юна, как эти кувшинки.
Самойлиха добралась до болотца, зашла за кусты, оглянулась сто раз по сторонам, сняла сарафан, сняла и рубаху из простой льняной ткани и осталась в чем мать родила. Вошла в теплую воду, поеживаясь, вздыхая. Огромный живот, как чудовищная перина, колыхался перед глазами, когда смотрела вниз. А была ведь тростинкой! Что делают годы с людьми!
Вот они, кувшинки, с их особенным запахом, вот трава, вот ряска, которая голубеет в лунном свете.