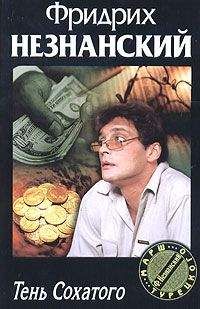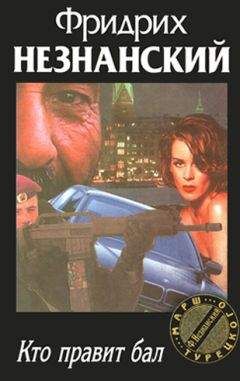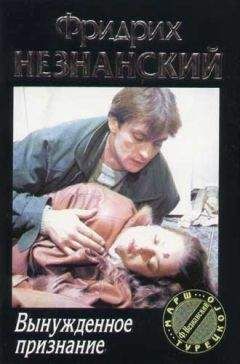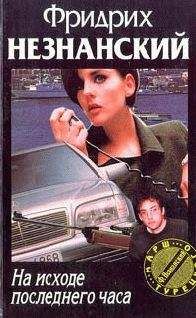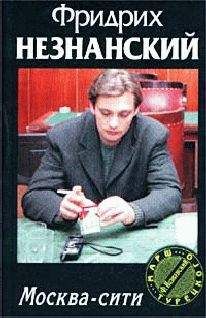Ознакомительная версия.
— Что хотелось бы? — наморщил лоб Боровский.
— Ну, полюбить? Ведь это такое прекрасное чувство — любовь.
«Бредовый какой-то разговор», — подумал Генрих.
— Я об этом не думал, — сухо сказал он.
— А я думал. — Леонид наклонился, сорвал травинку и вставил ее в рот. Немного пожевал, размышляя, потом повернулся к Генриху и сказал: — Генрих, а что бы ты подумал, если бы я… если бы я сказал тебе, что знаю человека, который… любит тебя?
Лицо Боровского залилось краской. Он понял, куда клонит Розен. Генрих никогда еще не сталкивался с такими людьми, и поэтому все происходящее казалось ему какой-то бездарной и абсурдной пьесой, разыгрываемой в дешевом самодеятельном театре. И на всем этом был какой-то пошлый налет, заставлявший Боровского морщиться (хотя он и скрывал свои чувства).
— Ничего бы не подумал, — сказал Боровский.
Леонид улыбнулся и лукаво спросил:
— Даже не спросил бы меня, кто этот человек?
Боровский покраснел еще больше. Его красивое округлое лицо стало совершенно багровым.
— Ну почему бы не спросил? — неуверенно промямлил он. — Спросил бы.
— Тогда можешь спрашивать прямо сейчас, — четко и ясно произнес Розен.
Неизвестно почему, но Боровский вдруг почувствовал такой стыд, что готов был провалиться сквозь землю. Черт его знает, что нужно сказать, чтобы перевести беседу в другое, правильное, русло. А то, что беседа приобрела неправильный оттенок и что она вот-вот превратится во что-то противоестественное и омерзительное, это Генрих понимал.
— Рядовой Боровский! — раздался высокий и визгливый голос прапорщика.
Никогда еще Генрих так не радовался появлению прапорщика. Он ухватился за этот мерзкий голос, как за спасительную соломинку.
— Прости, меня зовут, — сказал он Розену.
Тот понимающе кивнул.
— Рядовой Боровский, где вас черти носят!
Генрих вскочил со скамейки, нахлобучил на голову пилотку и побежал на зов. Если бы он обернулся, он бы увидел, каким долгим и печальным взглядом проводил его Леня Розен. Когда же Боровский свернул за угол, Розен вздохнул и, уставившись в одну точку прямо перед собой, уныло покачал головой.
С того памятного для обоих разговора прошло несколько месяцев.
…Генрих сидел на той же самой скамейке, что и тогда. Сидел, понурив голову и поглядывая исподлобья на сослуживцев, обступивших турник. Ох, если бы только решать личные проблемы было так же просто, как подтягиваться на перекладине, подумал Боровский. Бицепсы! Зачем нужны эти бицепсы, если не можешь ответить сам себе на самые простые вопросы?
Проблема отношений с Розеном осложнялась тем, что Генриху этот парень нравился. Очень нравился. Он был красив, высок и изящен. Он нравился Боровскому, как нравятся киноактеры, как нравятся произведения искусства. Однако в чувственном наслаждении, которое он испытывал, глядя на Розена, не было ничего, связанного с похотью и зовом плоти. Или… было? Иногда Генриху казалось, что он и впрямь смотрит на Леонида не как на мужчину. Слишком уж нежен и женствен был Розен. Слишком уж бархатными были его глаза, и слишком уж пристально смотрел он на Боровского, когда взгляды их случайно пересекались. И в эти редкие моменты сердце Генриха действительно начинало биться чаще, чем обычно.
— Розен! — раздался призывный крик командира.
Леонид подошел к перекладине. Он подпрыгнул с легкостью гимнаста и тут же, с ходу, стал подтягиваться. Подтягивался он ловко и технично, словно это не требовало от него никаких усилий. Тонкое, смуглое тело было натянуто как струна. Каштановая голова легко взмывала над перекладиной. Боровский смотрел на него и не мог отвести взгляд. Он почувствовал в душе какое-то неясное томление.
Самые опасные предположения Боровского начинали сбываться. «Неужели я и в самом деле педик?» — тоскливо подумал он. Дурацкое и гнусное слово «педик» заставило Боровского усмехнуться, хотя усмешка получилась горькой. «Нет, ты не педрила! — злобно сказал ему внутренний голос. — И хватит забивать себе голову всякой чушью! Если этот ублюдок подкатит к тебе еще раз, просто дай ему по зубам! Это отобьет у него охоту делать пошлые намеки!»
Боровский решительно поднялся со скамейки. Он подошел к Риневичу и негромко сказал:
— Слышь, Алик?
— Чего? — повернулся тот.
— Когда будете делать ноги, разбуди меня. С вами пойду.
Риневич окинул его веселым взглядом и кивнул:
— Вот это дело! Наконец-то ты созрел. А то корчишь тут из себя праведника. Аж перед пацанами неудобно. Что это, говорят, у тебя за друг такой? По бабам не ходит, на самогонку не скидывается. — Ухмылка Алика стала еще шире, как с ним всегда бывало, когда он смущался. Он лихо сплюнул через плечо и задумчиво добавил: — Намеки всякие делают…
— Хватит трепаться, — оборвал его Боровский. — Сказал — пойду, значит, пойду.
— Как скажешь, — покорно согласился Риневич.
2. СамоволкаПокинув расположение части, самовольщики заскочили на пять минут в полуразвалившийся амбар, стоящий тут с незапамятных времен, и, скинув с себя обмундирование, переоделись в припрятанные здесь же гражданские шмотки — брюки, олимпийки, затертые пиджаки и заношенные до дыр кеды. Вид у них был, конечно, не фартовый, но для здешних полудиких мест вполне приличный.
Переодевшись, они двинулись к клубу. По пути ребята сделали еще одну остановку, затарившись у лысого деда, которого в поселке прозвали Леший, двумя бутылками вонючего самогона. Самогон был опробован тут же, поэтому к клубу парни подходили уже изрядно навеселе.
Клуб был небольшим, однако кирпичным, что для здешних мест было большим достижением. Этот захудалый образчик советского зодчества представлял собой кирпичную белую коробку с двумя деревянными пристройками. Фасад клуба украшали четыре белые колонны с облупившейся кое-где штукатуркой.
Возле колонн в сумраке позднего вечера стояли несколько местных парней с тлеющими сигаретами в руках. Они неприязненно покосились на пятерых самовольщиков, приближающихся к клубу, однако ничего не сказали. Когда солдаты поравнялись с курильщиками, те вяло кивнули в ответ на их приветствия. Два парня даже пожали солдатам руки — на правах старых знакомых. Связываться с солдатами было рискованно, так как их в здешних местах было гораздо больше, чем местных парней, поэтому самовольщиков побаивались и уважали.
Танцы шли под радиолу. Какое-то время Генрих просто стоял у стены, наблюдая за тем, как лихо отплясывают в кругу местных барышень его сослуживцы. «Какого черта я здесь делаю?» — спрашивал он себя. Во рту у Боровского до сих пор был неприятный осадок от самогонки. Танцевать ему не хотелось. Местные барышни, большинство из которых смело выставляли напоказ пухлые ляжки, обтянутые черной сеткой чулок, его абсолютно не привлекали. Они были вульгарные, чрезмерно упитанные, чрезмерно накрашенные и почти все пьяные.
Эх, да надо нам жить красиво!
Эх, да надо нам жить раздольно!
Бо-га-тырс-кая наша сила!
Сила ду-ха! И сила во-ли!
Радиола надрывалась, но Боровского это не радовало. Подошел запыхавшийся Риневич.
— Ну че, Геня, — задорно подтолкнул он Генриха плечом, — не в кассу тебе наша гулянка?
Генрих пожал плечами:
— Почему, нормально. Самогонка только тухлая. До сих пор в глотке стоит.
Риневич махнул рукой:
— Да ладно тебе придираться, старик. Ты же не в Москве. — Алик окинул Боровского насмешливым взглядом, прищурился и добавил: — Радуйся жизни, пока молодой, и забудь о своих московских закидонах. Вот как я!
— Да я не поэтому, — вновь пожал плечами Боровский. — Просто…
— Просто бабы тебе не нравятся, — закончил за него Риневич. — Ой, смотри, Геня, не к добру это.
— Да при чем тут бабы! — вспылил Боровский. — Просто я…
Но тут музыка затихла, и Генрих не стал договаривать.
— А теперь — белый танец! — радостно объявил ведущий, невысокий, плотный мужичок, стоявший на страже радиолы. И разъяснил во избежание «непоняток»: — Дамы приглашают кавалеров!
Раздались медленнные аккорды, и вслед за тем сипловатый голос трогательно запел:
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна.
Как сын грустит о матери,
Как сын грустит о матери,
Грустим мы о земле, она — одна.
А звезды тем не менее,
А звезды тем не менее,
Чуть ближе, но все так же холодны.
И как в часы затмения,
И как в часы затмения,
Ждем света и земные видим сны.
И снится нам…
— О! — сказал вдруг Риневич. — Кажется, к нам приближается таинственная незнакомка. Старик, соберись!
Генрих проследил за его взглядом и увидел приближающуюся девушку. Она была довольно высокая и вполне стройная (особенно в сравнении с «местным женским контингентом», как называл поселковых девушек Алик). Рыжеватые, всклокоченные по последней моде волосы, полнокровное конопатое лицо, белозубая улыбка и наглые зеленые глаза — вот как она выглядела, эта «таинственная незнакомка».
Ознакомительная версия.