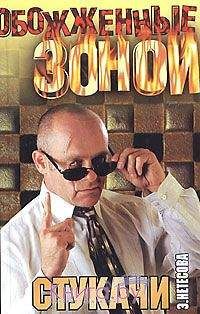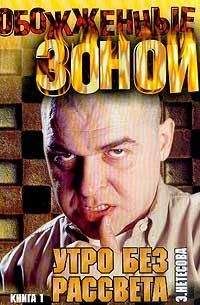Вскоре на ней увезли Самойлова с Абаевым. Их Димка не засветил операм. И немало удивился, увидев, как земляков загоняют в машину. Нет, они никогда не были друзьями. И тут, в зоне, и в колхозе куска хлеба не разделили. Но и не враждовали никогда.
У земляков в глазах увидел перед отъездом смертельную усталость от жизни. Они ни о чем не просили, ничего не сказали Шилову. Они прощались с ним, равнодушно обменявшись взглядами.
«Видать, на их шеи тоже стукач сыскался. Всем охота на волю. За чей счет — неважно», — подумал фискал и даже не поинтересовался у охраны, куда увозят его земляков.
Димка разучился вступаться за кого-то. Понял, в зоне, как и всюду, о своей шкуре надо думать всегда. Вон Поликарп спокойно работал бригадиром целых три месяца. Да вздумал вступиться за круглого, сдобного Генку Козлова, которого охрана в красные шапочки уговаривала. Мол, давно на тебя оперы зуб точат. Тот самый, что ниже пупка. Не ломайся, дурень. Побудешь в подружках недолго. А едва насытятся твоей задницей, на волю выпустят. Разве не подходит плата?
Генка долго не мог понять, какое отношение к воле имеет его задница? И что от нее потребовалось операм?
Поликарп на свою беду оказался догадливее. И, вырвав Генку из рук охраны, заорал на нее так, что работяги прибежали. Узнать, в чем дело, захотелось. Их тут же разогнали. А Поликарпа вместе с Генкой в спецчасть уволокли.
Козлову наглядно показали, что от него требовалось. Уволокли в соседний кабинет, стянули портки с мужика, сорвали исподнее. И, загнув в коромысло, пропустили хором. Потом оставили отдохнуть до вечера, окатив ведром воды.
Поликарпу, чтоб за чужую задницу горло не драл, и того хуже досталось.
— Ты кого сволочил и подонил? Кого грязью поливал, мудило? — врезался сапог в ребро.
— Чего носом в чужую сраку лез? — влипал кулак в висок.
Поликарп умер в одиночной камере на третий день. Димка об этом узнал от работяг барака. Они взбунтовались и требовали к себе начальника зоны.
Но их быстро успокоили. Выволокли во внутренний двор и, поливая холодной водой из брандспойтов, до ночи продержали на земле. Лишь Шилова и пятерых стариков не тронули. За молчанье. Остальные надолго запомнили холодный душ, выстудивший всякое желание вступаться за ближнего.
В бараке работяг с неделю тишина стояла. Не только говорить, дышать было больно. Мужики подолгу курили, завернувшись в одеяла. Лишь изредка срывалась сквозь стиснутые зубы злая матерщина. Кому она была адресована, кому предназначалась камнем вслед — попробуй разберись.
Услышав такое от Шилова, оперативник ухмылялся:
— Поджали хвосты, мать их!..
Димка ненавидел эту кривую усмешку. Но молчал, не ему она послана, его не заденет.
— Ты вот что, Шило, теперь приутихни. Через месяц на волю пойдешь. Прикинься больным. В санчасть тебя возьмут. Оттуда спишем на свободу, по болезни. Понял?
Димке второй раз повторять не стоило. Он враз уразумел. И на другой день к вечеру так изобразил из себя хворого, что работяги, забыв о собственных болячках, вмиг доктора привели. Тот оглядел Шилова. И вскоре забрал его из барака.
Шилов пролежал в больнице три недели. Он уже знал, что оперчасть готовит документы на его освобождение.
«Скоро домой, на волю», — радовался Димка и вдруг не вольно, по привычке прислушался к разговору соседей по койкам, каких привели в больничку только сегодня днем.
Их с Анадыря сюда сгоняют. Всех. Там, в зоне, эпидемия. Говорят, тиф. Косит мужиков пачками.
— Они и к нам заразу завезут, — охнул кто-то.
Не-е-ет. Эта зараза на третий день убивает. Кто три дня пережил, тот выживет. Да и к нам они добираются лишь на восьмой день, когда уже все позади.
— Но ведь перезаразят наших.
— Чего ты трясешься? Их в барак политических всунут. К нам — в фартовый — никого! Усек? Так что кипеж не подымай.
Димке стало неуютно, холодно от услышанного.
«Тифозных в зону хотят всунуть? Ну и дела! Сколько же зэков копыта откинут, заразившись? Выходит, мне крупней всех повезло, что вовремя смоюсь?»
— Ты хлябальник захлопни, ботаю тебе, и политическим ни звука. К ним — этих воткнут. Нам же кайф. В зоне мусоров поубавится, охраны. И нам лафово дышать станет.
— Когда этап прихиляет?
— Утром должен нарисоваться…
Димка всю ночь ворочался на койке. Едва начинал дремать, виделись кошмары. Люди, измученные болезнями и голодом, едва держась на ногах, шли в зону гуськом..
А утром, едва забрезжил серый рассвет, охрана открыла охрипшие от сырости и холода ворота. В них въехали крытые брезентом машины.
Шилов стоял у окна. Наблюдал.
Вот брезент машины откинули охранники, послышалась команда:
— Выходи!
Из кузова, тяжело перевалившись через борт, сползали на землю люди.
Бледно-зеленые, желтые лица их были измождены голодом и болезнями. В глазах страдание и усталость стыли. Они даже не оглядывались по сторонам. Держались за машину, друг за друга, чтобы не упасть.
Худые до прозрачности, они дрожали на ветру иссохшими листьями, беспомощно озирались на охрану, втягивая головы в плечи от окриков и команд.
Казалось, у них не было возраста. Все — на одно лицо. Все морщинистые, стриженые. И даже выражение страдания было одинаковым, как штампованная маска.
— Стройся! — послышалась команда начальника охраны. И новые зэки послушными, немыми муравьями поползли в строй.
Вот кто-то не удержался. Упал. Сам встать не может. Ему хотели помочь свои. Но не смогли поднять. Упали сами.
— Живей! — кричала охрана.
Зэки в суете падали, спотыкались. Им не помогали встать.
— Шевелись!
Новый этап кое-как сбился в серый, жалкий строй, длинный, как горе.
Начальник зоны вышел сам, решил взглянуть на пополнение и сморщился.
Но, пересилив себя, начал свою обычную речь, какою встречал всех новичков. Он говорил долго. О правилах и порядках, о традициях и требованиях.
Зэки слушали. Казалось, они боялись громко дышать, чтобы, не приведи бог, не вздумали их отправить обратно.
— Мать твоя — сука облезлая! Да это же сущие жмуры! Ни одного фартового! Сплошь фрайера!
— Ну и дела. В гроб файней кладут! Ну и зэки! — услышал Шилов голоса фартовых.
А начальник зоны все говорил. Он заранее грозил упрятать в шизо до конца жизни любого нарушителя. Оставить без баланды и кипятка «сачков». Лишить писем и посылок тех, кто не будет выполнять норму выработки.
Он еще долго грозился бы, если б в это время из строя не упал мужик.
Он сунулся лицом в утоптанную землю и затих не шевелясь, словно боясь нарушить распорядок приема нового этапа.
— Это еще что такое? — возмутился начальник, увидев упавшего, и закричал — Симулянт! Встать!
Но человек не шевелился. Никто из зэков не решался ему помочь, чтобы не навлечь на себя гнев.
— Встать! Кому приказываю! — подошел к упавшему начальник зоны. Но тот не шевелился.
— Поднять его и в шизо! — бросил через плечо охране раздосадованный неповиновением новичка.
Охрана кинулась к упавшему. Повернула его на спину и отпрянула:
— Готов он…
— Куда готов? — не понял начальник.
— Умер, — уточнил молодой охранник и отвел глаза в сторону.
— Только этого мне не хватало! Убрать его! — распорядился торопливо. И поспешил уйти подальше от новичков.
Их вскоре повели в барак к политическим.
Димке стало нехорошо от увиденного.
Старый дедок, похожий на подростка, еле волоча ноги, с трудом успевал за теми, с кем приехал. Обеими руками придерживал сползающие с костей брюки и спотыкался на каждом шагу.
— Шустрей! Шевелись! — слышались команды, сыпавшиеся на головы зэков, как пули из автоматов.
Вот еще мужик свалился. Его с трудом поставили на ноги, чтоб не злить охрану, потащили обессилевшего за собой. Скорее, подальше от брани и насмешек, от грубости и угроз… Куда-нибудь, где можно спрятать душу…
Димка лег в постель. Чтобы отвлечься от увиденного, он начал считать время, какое он затратит на дорогу домой. Выходило, не меньше двух недель.
«Многовато, — вздыхает мужик. И подсчитывает, сколько денег изведет на харчи. Этих расходов не миновать, как ни старайся. — Но надо уложиться в сотню. Никак не больше. Ведь и подарки надо купить своим. Без них нельзя. А сколько мне начислили за все время? — пытается вспомнить, сколько зарабатывал, сколько вычитали за питание и спецовку, сколько брал на ларек. Но все не упомнить. А записей не вел. — Теперь и надуть могут», — ворочается Шилов.
— Эй, мужики, подсобите! — слышится голос за дверью. И в распахнувшуюся настежь дверь двое охранников внесли за руки и ноги какого-то мужика, видно, из только что прибывших.
— Тифозник? — вскочили фартовые в ужасе с постелей.
— Этого хмыря уже миновало лихо. Ишь, глаза еще моргают! — указал охранник и добавил, словно оправдываясь: — Начальник велел его сюда приволочь. Чтоб одыбался…