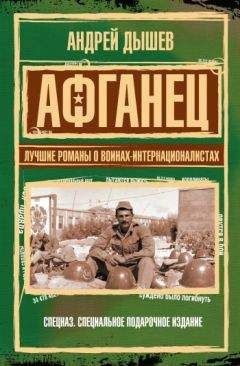Прапорщик из комендатуры, едва удерживая на поводке злую овчарку, приказал всем построиться в одну шеренгу. Заменщики добросовестно построились, только Герасимов игнорировал команду, закинул лямку сумки на плечо и пошел наискосок через взлетную полосу, мимо зачехленных вертолетов, рифленых ангаров, пролез через прорехи в ограждении из колючей проволоки, обошел капониры и млеющих под утренним солнцем часовых. Герасимов у себя дома, ему не надо ничего объяснять. Прапорщик молча проводил его взглядом, с важным видом прохаживаясь вдоль строя, и начал играть хорошо отработанную роль. Через неделю эти приглушенные офицеры станут уже другими людьми, их уже так не построишь и разными страшилками не запугаешь. А сейчас пока можно. Сейчас они смотрят на прапорщика, как на бога, как на супермена, как на птицу Феникс, возродившуюся из пепла.
— Попрошу всех соблюдать предельную осторожность. В последнее время участились провокации со стороны бандформирований. Расположения наших частей постоянно обстреливают как из стрелковых, так и из других видов оружия. (Офицеры переглянулись: вот что, блин, делается! А-я-я-яй!) Особое внимание хочу заострить на минные поля (все проследили за рукой прапорщика и одновременно повернули головы), которые находятся по периметру нашего с вами местостояния…
Им начинать с нуля. Им постигать войну, вбивать ее себе в душу, мозолить нервы и крепко держаться за головы, чтобы не сойти с ума. А Герасимов будто и не уезжал, будто не было никакого отпуска. Он почувствовал, что уже почти бежит. Пыль, звонкий воздух, свист вертолетных лопастей, картонные горы. Все как прежде. Только нет здесь Гули. И он до сих пор не знает, где она, что с ней. И чем больше он приближался к расположению полка, тем меньше оставалось в нем того человека, который сидел среди звона вилок и ножей и слушал анекдот Артура Михайловича, который гладил ногой полированный, пахнущий мастикой паркет, с детским недоумением прислушивался к таинственному бою напольных часов, который ходил по магазинам, смотрел на розовые прелести колбас, терялся на многолюдных улицах и испытывал неудержимое притяжение водочных отделов гастрономов. Он будто терял контуры, осыпался, словно кусочек сахара, брошенный в чай. Он постепенно превращался в воздух, пропахший горелым авиационным керосином; в колющее и ослепительное, как взрыв, солнце; в солярный выхлоп, идущий от «бэшек», в выбеленную, хрустящую «афганку», в перловку с мясом, в банку со сгущенным молоком, аккуратно проткнутую автоматным патроном — пей, работай языком, старайся изо всех сил, тяни в себя эту сладкую, вяжущую патоку войны. Герасимов, превращаясь в белую птицу, догонял свою стаю. Вот уже почти догнал, его уже почти не отличишь от других, и куда-то вперед, вперед, в вечный бой.
Он дома! Он среди своих! Здесь все понятно, все ясно, все объяснимо! Как небо для птицы, как море для рыбы, как морг для трупов. Родная стихия! Противотанковый дивизион. Встречаются знакомые лица. Привет! Ты из отпуска? Чем занимаетесь? Проверками из штаба округа задрючили… Летим дальше, ныряем глубже, в самую толщу, в самую начинку. Рембат. За колючкой затаились железные уродцы с оторванными башнями, раскуроченными трансмиссиями, обгоревшими катками. Разорванные, разбитые, помятые машины похожи на груду пустых консервных банок. Здорово, Валера! Загляни вечерком, сейчас времени нет, столько битой техники привезли!.. Еще глубже, снять с себя все ненужное, земное, заглотнуть воду, обрасти плавниками. Ты там, где должен быть… Разведбат. Утонченное военное изящество — бетонные дорожки и клумбы из автомобильных покрышек. Территория пуста, разведчики на войне. Они всегда на войне. Когда возвращаются, они не смотрят на эти дурацкие клумбы, они их не видят. Они вообще ничего не видят, кроме секторов обстрела, пылающих «бэшек» и крови.
А вот парк боевых машин мотострелкового полка. Это уже совсем близко к дому, совсем горячо, можно забраться в десантное отделение любой БМП и уснуть — никто не потревожит. Но разгоряченная техника со знакомыми номерами все никак не угомонится, все лязгает гусеницами, перетирает рыжую муку. Девятая рота Белкина, догадался Герасимов, только прибыли. Машины ревут, сержанты командуют: первое отделение берет оружие и снаряжение раненых, второе отделение — оружие и снаряжение убитых, третье отделение — оставшиеся боеприпасы и трофеи. Запалы из гранат вывинтить! Магазины отсоединить! Автоматы — на предохранители… Я кому сказал, долбоеб, что сначала нужно отстегнуть магазин, а затем уже передергивать затвор! Всем проверить карманы! Чтоб ни у кого не осталось запалов…
Все злые, напряженные, кипящее олово, а не рота. Лица у бойцов серые, глаза ввалились, утонули в синяках. Даже «сыны» покрикивают друг на друга. Бронежилеты летят в пыль, выкатываются минометные плиты, шлепаются пустые коробки с лентами, пустые магазины, пустые «лифчики»; каски, как чугунки для плова, кувыркаются в пыли. Мат, угрозы, толчки.
— Второй взвод! — орет старшина. — Остаетесь на выгрузке.
Подлетают юркие и мерзкие «бобики» — санитарные машины. Мерзкие, скользкие внутри, провонявшие трупами. Санитары выходят неторопливо, закуривают, прислонившись к пропыленным бортам машин, изредка переговариваются. Спешить уже некуда, раненые уже в медсанбате, остались только трупы. Второй взвод — одно название. В нем уцелело несколько человек, да и от тех уже толку мало. Кто-то повалился у катков «бэшки» и курит, курит, курит; кто-то поплелся куда-то в сторону, не соображая, куда и зачем; кто-то приспустил штаны, пристроился под колесом «ЗИЛа». Остался самый дурной, полусонный, с отшибленными чувствами. Ему и выгружать ночь. Он открыл дверь десантного отделения, и запертый внутри студенистый мрак сжался от яркого света. Боец стал выталкивать его наружу ногами — промокшие от крови куртки, рваные штаны, ботинки, тяжелые, сырые ватные тампоны, окровавленные бинты — все вон, все на землю! Лишаистый пес, снующий между машин, замер, потянул липкими ноздрями, почуял кровь, и на его загривке вздыбилась шерсть. Некоторое время он колебался, подходить ли к окровавленному тряпью с тяжким запахом, от которого спазматически сжимался желудок. Обошел бурый ком, задирая подслеповатую морду, чтобы лучше поймать запах. Пахнет человеком и в то же время едой, сырым мясом. Неужели сами бойцы будут это жрать? Вряд ли. Если б собирались жрать, то уложили бы в коробки…
Пес несмело приблизился, истекая слюной. Запах становился невыносимым, от него голова шла кругом. Щелкнув зубами, пес ухватил окровавленный тампон с налипшими на него сгустками крови и бочком, воровато оглядываясь, потрусил к «ЗИЛам».
— Ах ты ж, сука! Тварь поганая! — крикнул боец, который подбирал с земли каски. Он со всей силы ударил пса по ребрам тяжелым ботинком. Пес жалобно взвизгнул, но добычу не выпустил и, высоко задирая кривые лапы, помчался прочь.
Вот же какая тварь поганая! Дай ей волю — сожрет убитого или, гадина такая, догрызет раненого. Все они тут — и люди, и собаки — одним миром мазаны. Людоеды. Кровопийцы. Весь Афган — одна большая голодная собака с плешивыми лишаистыми боками.
— Одурели совсем?! — хрипло кричал командир роты, пытаясь призвать бойцов к порядку. — Забыли, как ходить строем?! Встать в колонну по три, застегнуться, подтянуть ремни! Сержанты, ёп вашу мать, вы будете командовать подчиненными?!
Рота напоминала груду грязного тряпья. Рота не хотела жить. Им уже было на все наплевать. Их схватила и понесла куда-то огромная рыжая собака с проплешинами на боку, и уже не спасешься, не уйдешь от зловонной пасти, из которой смердит мертвечиной, от этих клыков, от горячей и вязкой слюны…
В штабе считали цифры, складывали, качали головами, курили и матерились. Духи совсем обнаглели. Пора навести порядок в провинции. Банды перешли границы допустимого. Даже в договорных зонах стреляет каждый дувал. Пора прекратить этот произвол. Командиры подразделений, вы ответите мне за каждого солдата, за каждого, плядь! Провести в ротах комсомольские собрания, настроить людей на боевой дух, на победу! Задействовать все средства политико-воспитательной работы, партийно-политической агитации и пропаганды. Но этот бардак прекратить! Нытье прекратить! Сопли убрать! Вы же офицеры! Вы же коммунисты, плядь! И чтоб я больше не слышал! И чтоб мне больше не докладывали про эту куетень!
Солдат из строевого отдела долго пялился на отпускной билет Герасимова, считал даты, смотрел на календарик и ничего не мог понять. Герасимов позвонил дежурному по БАПО. Да ничего с отрядом особенного не случилось. Да, обстреляли малость. Да, есть убитые… Женщина? Какая женщина? Гульнора Каримова, медсестра из медсанбата? Нет, по женщине никакой информации нет.
От вращения ручки полевой телефон прыгал на тумбочке. Лениво ответил медсанбат. Каримова? Нет на месте, она на выезде. Не знаю, когда будет… А что с ней должно случиться? Если б что случилось, я бы знал, не зря ж тут сижу, штаны протираю…