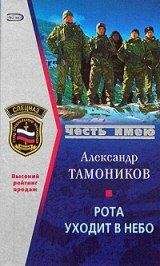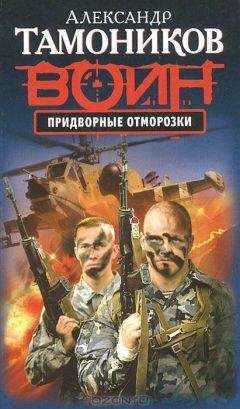Командир внезапно замолчал. Он встал, прошелся по кабинету. Доронин с Костей напряженно слушали эту наступившую тишину. Смирнов, выдержав паузу, продолжил:
— А неточность эта в том, что вертолет не рухнул, сбитый, отвесно вниз. Экипаж в последние секунды, теряя управление, раненый, направил горящую машину в тот проклятый узкий проход, преграждая взрывом, обломками вертолета, камнепадом, своими телами, наконец, путь душманам, тем самым спасая жизнь нам. Это был таран, Костя. Наземный таран. Вот так. Благодаря этому экипажу, и твоему отцу в частности, восемнадцать человек избежали неминуемой, страшной смерти. Я потом, после госпиталя, писал рапорта, где докладывал истинную картину гибели экипажа «Ми-24», но то ли им не придали должного значения, то ли еще что, но командование определило произошедшее как обычный на войне трагичный случай. И наградило исходя из такой оценки случившегося. А заслуживали ребята большего. Фотографию я выпросил у одного прапорщика из их эскадрильи, которая дислоцировалась недалеко от нашей бригады. Вот откуда она у меня. И я берегу ее, храня глубокую признательность этим парням, до конца выполнившим свой долг и даже сделавшим большее. Тем, кому я обязан жизнью.
Смирнов подошел к Косте, который стоял возле стола, вновь обнял солдата:
— Вот, Костя, как все было! И помни, что бы ни говорили, твой отец – герой… А ты, Доронин, береги парня, понял?
— Так точно, товарищ подполковник!
Когда Доронин с Ветровым вышли, Смирнов вздохнул, взял пожелтевшую фотографию. Долго всматривался в лица улыбающихся молодых офицеров, навсегда оставшихся в том далеком восемьдесят первом…
Он бережно положил фото в удостоверение личности офицера, подошел к окну, задумчиво закурил, наблюдая, как уходят в снегопад две фигуры. Был ли Смирнов в мыслях рядом с ними или вновь вел неравный, кровавый бой в горах Афганистана?
Непроницаемое лицо боевого офицера ответа не давало. Он просто смотрел сквозь оконное стекло. Думая о чем-то своем.
А затем началась череда неприятных новостей. Во-первых, сразу после праздника подполковник Смирнов попал в автокатастрофу и в тяжелом состоянии был определен в госпиталь. Повреждения он получил настолько серьезные, что о возвращении в строй не могло быть и речи. Вопрос стоял о том, сможет ли подполковник вообще нормально передвигаться, так как был сломан позвоночник.
Командиром части временно назначили Куделина, который на днях получил очередное звание – подполковник. Обычно командира замещает его прямой заместитель или начальник штаба. Но Куделин обладал обширными связями и благодаря им да вовремя полученному званию сумел-таки, пусть временно, занять вожделенный пост. С вступлением его в должность обстановка в части резко изменилась. Куделин никогда не забывал нанесенных ему обид, поэтому Доронин и Чирков сразу же попали под его плотный прессинг, грозящий последним весьма крупными неприятностями.
Доронин прекрасно понимал, что с уходом Смирнова участь его как командира роты, а возможно, и офицера предрешена. Куделин приложит все силы, чтобы смешать его с дерьмом, а в армии это, к сожалению, проще простого. Написать рапорт о переводе в другую часть? Это, в принципе, возможно, но как же Катюша? Забрать с собой всю семью? Вот так сразу, когда он им еще никто? И куда забрать? В новом гарнизоне в лучшем случае он может рассчитывать на комнату в общаге. Нет, это нереально. «Значит, что? Увольняться? – задавал себе вопросы Александр, сидя в канцелярии роты. – Да. Скорее всего – придется уволиться. Не лизать же задницу Куделину? Этого не будет никогда».
— О чем мысли? – неожиданно, как всегда, вошел Чирков. Даже дневальный не среагировал.
— О службе.
— Нашел о чем думать. Что ей, службе, будет? Идет она и идет. Хреново, правда, в последнее время, но это от нас, Сань, никак не зависит.
— Тебе все равно, что будет дальше?
— Мне не все равно. Но что ты можешь предложить? Плясать под дудку Куделина? Ты как хочешь, а я не буду.
— Я вообще думаю уволиться. Завтра подам рапорт на отпуск, отгуляю как следует, а потом – пошло оно все к черту! Квартира есть, работу найду.
— Ну и что тогда нос вешать? Что мы, на гражданке не пристроимся?
— Ты что, тоже решил уволиться?
— Нет, буду ждать, пока Куделин и такие, как он, выгонят. И потом, вместе нам легче будет устроиться в жизни. Создадим какое-нибудь ЧП. По крайней мере, зарплату месяцами ждать не будем. А Куделину я, Сань, гадом буду, в пятачину все же заеду от души. За все его гнидство.
— Солдат бросать жалко. Верят они в нас, Володь.
— Верят. Но верят потому, что такие мы, как есть. Если же изменимся и станем подхалимами, поверь мне, отношение к нам быстро изменится. Так что, Сань, давай решать прямо сейчас, уходим?
Доронин задумался. Ответь он сейчас утвердительно – и все, надо идти до конца. Посоветоваться с Катей? А что она может посоветовать, не зная систему, в которой ему приходится крутиться? Подумать еще? А смысл? Думай не думай, но выбора нет. Куделин свой первый шаг уже сделал, заменив взводного Андреева на Панкратова. Именно на Панкратова – такого же карьериста и себялюбца, как сам. Ясно, что вопрос о снятии с роты его, Доронина, уже решен Куделиным. Так что же тогда думать, пытаясь найти выход, которого нет? Да. Надо уходить. А солдаты? Они поймут. И будет лучше, если они увидят, что офицер уходит, не изменяя своим принципам, чем предательство в личных, корыстных целях. Именно предательство по отношению к своим подчиненным. А это не прощается.
Чирков молча курил, не втягивая друга в разговор, давая ему проанализировать ситуацию и окончательно принять решение. Для себя Володя решил – марионеткой он не будет ни в чьих руках. И увольнение – вопрос решенный. Он ждал, что скажет друг. Доронин наконец нарушил молчание:
— Уходим, Володь. Но сначала отпуск. Вернусь – рапорт на стол. Решено!
— Ну а я начинаю завтра же. Пойду к Куделину, брошу рапорт и еще парочку слов ласковых, чтобы ускорил процесс. Я устрою ему напоследок цирк, где клоуном выставлю его, поганца.
— Брось, Володь, тебе это надо?
— Еще как. Отыграюсь я на нем, отыграюсь. Всю правду-матку ему в глаза выскажу.
— Это твое дело. Пошли домой?
— А как же общая вечерняя поверка?
— Пошла она к черту! Панкратов пусть тренируется, а я лучше с Катюшей вечер проведу.
— Пошли. Только я в роту позвоню. Предупрежу старшину.
Доронин вместе с Чирковым вышли из канцелярии. Александр приказал дневальному вызвать старшину. Тот тут же появился из своей каптерки.
— Вызывали, товарищ старший лейтенант?
— Слушай, Акиф, где у нас сейчас Панкратов, не в курсе?
— По-моему, в штабе, мне он не докладывает.
— Он никому не докладывает, кроме Куделина. В общем, передай ему – пусть выводит вечером роту на общую поверку. Меня не будет.
— Что так?
— Не хочу!
— Складываешь крылья, командир?
— Правильнее будет сказать – обрезают их мне, Акиф.
— Слышал уже. Что дальше-то будет?
— А ничего. Служба будет для тебя. Ты мужик деловой, можно сказать, незаменимый. Служи, старшина.
— Завтра на подъеме будешь?
— Вряд ли.
— Ладно. Я приду. Плохо все это, Сань, очень даже плохо.
— Кто бы спорил, мой нерусский друг. Ну давай. Будут вызывать – посыльного зря не гоняй. Не приду.
— Понял.
— До завтра, Акиф!
— До завтра, – вздохнул старшина, понимая, что и в его жизни наступают изменения, и далеко не в лучшую сторону.
Куделин претворял намеченные планы в жизнь. Он отпустил Доронина в отпуск, одновременно назначив старшего лейтенанта Панкратова исполняющим обязанности командира роты. И в подразделении Доронина ненавязчиво установленный и тщательно поддерживаемый Александром порядок стал быстро меняться. Панкратов не считал нужным вникать во все проблемы жизни подразделения, перевалив свои обязанности на плечи взводных, а в большей степени на сержантов. Прапорщик Мамедов один еще как-то старался сохранить то, что было достигнуто ранее. Но постоянно натыкался на замечания и.о. ротного. Панкратов, уверенный, что Доронину уже не командовать ротой, устанавливал свои, выгодные только ему порядки. А выгодно ему было лишь внешнее благополучие, держащееся на диктате старослужащих. Он стоял на стороне таких, как Гольдин, считая, что они своими методами вполне в состоянии удержать роту в подчинении.
Атмосфера в подразделении изменилась. Теперь молодой солдат мог обратиться к командиру лишь по инстанции, часто через того самого сержанта, который и творил безобразия. И никаким другим путем. Панкратов резко обозначил грань между собой и остальными подчиненными. Из форм воспитательной работы практиковалась одна – еженедельные совещания с сержантским составом, где последние докладывали о том, что у них все в порядке, или называли нарушителей, с которыми следовало разобраться. В число первых нарушителей, естественно, попали Горшков с Ветровым. Друзья не хотели мириться с явным произволом старослужащих и как могли сопротивлялись.