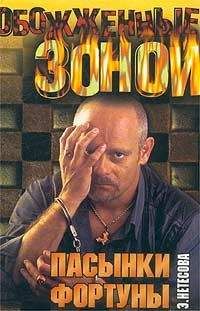Он даже не заметил, не увидел, как ушла Валентина. Он не простился с нею, простив ей и Чубчику, не сказал спасибо за короткую передышку, за тепло у их семейного очага…
Она ушла… Лишь свертки на тумбочке напоминали о ее посещении, да письмо Чубчика, которое женщина положила сверху. Сегодня Огрызку не захотелось читать его. Он смотрел в потолок, стараясь отвлечься от невёселых мыслей. Он понимал, что снова стал лишним, чужим и ненужным, что у чужого очага тепло не греет…
«Да дьявол с ними! Ну чем он мне обязан? Чего я к нему прилепился? Ведь вот сама судьба оторвала от него — обвалом. Значит, пора завязывать. Не туда попер. Менять «малину» — самое время пришло. А то, вишь, заделался в честняги-работяги. Ну, а фортуна по калгану огрела. За дурь! Со всех сторон разом. Но ей-богу! Обвал
легче пережить, чем эту пакость, какую Чубчик подложил. Сам не возник. Бабу прислал, препадлина! Прикрылся юбкой! Эх ты! Сучий хвост! Чтоб тебе всю жизнь из параши хавать!» — пожелал Огрызок Чубчику.
— И кто эта лягавая тебе приходится? — внезапно спросил одессит.
— Никто. Никем. Да и в гробу я их всех видел! — ответил Огрызок зло.
— Никто? А жратвы на целую «малину» приволокла! Это за какие крендели?
— За то, что при мужике ее оставил. Не разлучил их. Она и довольна до усеру. Она, пусть и мусориха, но сначала — баба! И без мужика, как общак без рыжухи, дышать не сможет! — нашелся Огрызок.
— Ас чего лягавая прощенья у тебя просила, иль лажанулась? — прищурился стопорило.
— Не она. За мужика пришлось ей…
— Она у вас за бандершу иль за шмару? — подсел одессит.
— Что я свой хрен на помойке поднял, чтоб с лягавой мазаться? Покуда себя за паскуду не держу! — фыркнул Кузьма.
— А за что ходку тянул?
Огрызок ответил — назвал статью, срок. Рассказал о незадачливых побегах.
Старатель слушал, выпучив глаза. А стопорило улыбался:
— Слушай, Кузьма! А куда теперь ты собираешься приклеиться?
— Да черт меня знает! Если катушки в норме, к своим похиляю. Коль не пофартит с ними, надо прилепиться к тихушникам.
— Вот гнида. Иль не знаешь, что тихушники — братья черта? И дышат по ходкам чаще других? Я имел с одним дело. У нас в Одессе народ веселый. Потому жмурятся реже, чем в других местах. Ну и отходят кайфово. Вот и Пачка, похоже, на тот свет отправился по бухой. Со шмары его сняли. Она,
дура, думала, что он уснул, а кент — копыта откинул! Как файный мужик, на бляди! Ну, не будем лажать девочку. Ее вскоре утешили, успокоили. А Пачку, как и полагалось, хоронили с почестями! Всеми, какие полагались. И поместили его в центре кладбища. Чтоб городским жмурам скучно не было. Пачка и на том свете в паханах остался, — рассказывал стопорило.
— С чего ты взял, что жмур в буграх у покойных фраеров? — не поверил Огрызок.
— А ты не суй свой шнобель в парашу, пока тебя за шиворот не взяли, — оборвал Кузьму стопорило и продолжил рассказ.
— Ну, пришел сороковой день и решили помянуть пахана фартовые Одессы. Бухнули. И на кладбище прихиляли. Я тоже Пачку знал. Уважал его. Пропустил стопарь, чтоб на том свете имел он баб по десятку на день. И хмельного! Столько, сколько воды в нашем море! Чтобы тряс на том свете жмуров, не боясь лягавых и ходок! Чтоб черти завидовали его навару! И вдруг приметил, что земля на могиле его после похорон перекапывалась. Указал фартовым. Те сявок свистнули. Подняли Пачку. А он — голый, как падла, будто его только со шмары сняли. Помешали кайф поймать. Стали барахло искать. Может, под голову в спешке притырил? Но ни барахла, ни шмары. Даже зубы золотые сняли у него. Будто в уплату за развлеченье. Кенты тогда долго смеялись, что пахан не теряется. И решили найти ту блядешку, какая зубы Пачки понесла менять на водяру. Ну я и надыбал паскуду. Он ювелиру их отдал в работу. Накрыл я его враз, — умолк одессит.
— И что с ним стало? — спросил старатель.
— А ничего! Кайфует в стремачах теперь. На шухере. Чтоб кто другой из его шоблы не лажанулся…
Кузьма усмехнулся. До старателя не дошло. Огрызок вмиг понял. Тихушника фартовые живьем закопали в могилу пахана. В вечные стремачи — на шухер. Всем тихушникам в науку…
Стопорило, увидев, что Кузьма уже двигает ногами, подбадривал Огрызка. И все успокаивал:
— Ты не гонорись сразу. Катушки пусть привыкают к жизни помалу. Не перегружай. Тебе пофартило, что они двигаются. Вот когда почувствуешь — способен от мусоров слинять, можно из больницы смываться.
— А ты чего сквозняк не дашь? — удивлялся Огрызок, замечая, что одессит вполне здоров и прочно держится на ногах.
— Успею. Не часто отдых обламывается, — отвечал стопорило. А через пару недель, когда Кузьма уже ходил но палате, держась за стены, предложил:
— Слушай, Огрызок, а не податься ли нам с тобой в Одессу? Там с тебя хворь и плесень шутя стряхнем!
Огрызок даже не раздумывал. И теперь старался из всех сил поскорее стать на ноги.
Но через пару дней одессита навестил хмурый пожилой мужик. Вместе с ним он вышел во двор больницы, а через час вернулся расстроенный, злой. Всю ночь не спал, ворочался с боку на бок. Несколько раз он вставал, курил у окна. А утром, когда старатель вышел из палаты, подошел к Огрызку:
— Мне пока не надо в Одессу. Время не пришло. Давай, если есть охота, приморимся в старателях. На время. На сезон. А осенью махнем в Одессу. Огрызок задумался. В старатели? Но для этого можно обойтись и без напарника. Правда, нужно знать продуктивные площади. А он, Огрызок, сам не сможет определиться. Вдобавок, вон — старатель: тоже покалечился, потому что в одиночку работал.
Огрызок, прежде чем согласиться, несколько дней все обдумывал. Он понимал, что неспроста одессит решил уйти в старатели, не случайно отложил возвращенье в Одессу. Но о причине молчал. Кузьме не пришлась по душе эта скрытность. «Коли стопорила решил скентоваться, игра должна идти в открытую, как и положено. А если молчит, дела его — хреновы. Зачем же связывать себя с тем, под кем задница горит? Иль мало потеряно на Чубчике?» — думал Кузьма.
— Замели моих кентов. Троих. Накрыли у барухи. Пусть шухер уляжется. Лягавые посеют мозги. И мы возникнем. А пока на дно залечь стоит. Но не без понта. С наваром, — подморгнул одессит, подойдя к Кузьме. И спросил: — Ты тут кентов имеешь?
Огрызок сразу вспомнил Чубчика. Но решил смолчать о нем. Да и какой понт с отколовшегося?
— Нет никого, — вздохнул тихо.
— Ладно. Сами пронюхаем, где и как втереться сможем, — не расстроился стопорило. И через пару недель оба выписались из больницы. Старатель, по простоте душевной, рассказал соседям по палате о возможностях площадей. Он работал в одиночку пять лет. Имел опыт. И сказал, что лучше всего идти следом за госпромыслом. «У них в отвалах больше половины золота остается», — признал откровенно.
— Я такие самородки находил, что сам удивлялся, как их просмотрели? А все потому, что не старатели они. Идут буром по участку.
Он поверил, что Кузьма с одесситом обязательно найдут его. И, объединившись, начнут работать вместе.
Едва Огрызок с одесситом вышли за ворота больницы, обещание забылось…
— Генька, — так назвал себя одессит уже в палатке, расположившись вместе с Кузьмой у заброшенных отвалов, отработанных зэками десяток лет назад.
Огрызок хорошо помнил это место. И не стал препираться, когда новый кореш предложил ему проверить старые выработки.
— Зэки тут пахали. А под охраной, это в Одессе всякий пацан сообразит, мужики не стараются. Берут лишь то, что сверху лежит. Промыв первые три лотка, Генька убедился в собственной правоте, а Кузьма осмотрел отвалы, промыл несколько лотков породы. И, довольный, вернулся в палатку.
— Ну, как твой улов? — показал стопорило намытое им золото. Оно сверкало на ладони блестками.
Кузьма вытащил два маленьких самородка и золотой песок, завернутый в носовой платок бережно.
— Давай, ссыпай! Вместе вкалываем, — посоветовал Генька. Но Кузьма не спешил объединять золото.
Одессит рассмеялся. И предупредил:
— Жадность — фраера губит…
Огрызок не придал значения старой фартовой пословице и решил по-своему:
— Дышать вместе, а навар — врозь…
Каждые два дня к ним наведывался представитель прииска в сопровождении милиционера и забирал намытое золото, скрупулезно взвешивая каждую песчинку. Запись в ведомости подписывалась всеми.
Представитель прииска, крепкий седой человек, относился с подозрением к старателям. Особо к тем, кто промышлял золото в паре либо поодиночке, чурался артелей. И говорил, что на месте государства он запретил бы такой промысел, потому что среди этих одиночек развелось ворье и жулики. При этом он пристально сверлил колючим взглядом обоих старателей.
— Что-то мало вы сегодня сдали. На этой площади впятеро намыв больше. Иль сачковали, либо украли, — сказал он как-то Огрызку и Геньке.