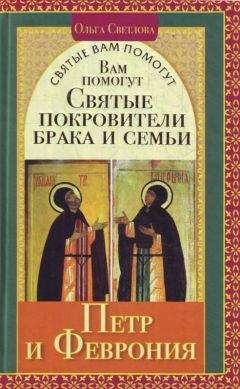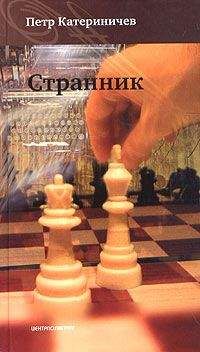Кое-как Ермолов приподнял огрузневшее свое тело с табурета, его качнуло в сторону, но он удержался. Добрел до дверей, обернулся:
– Люди, встречаясь, чаще всего спрашивают друг друга: «Как живешь?» И никто не спросит о важном: «Зачем живешь?» Это считается бестактным. Если бы меня кто-то спросил тогда, может быть, я смог бы явить мир, что так и умер во мне?..
Ермолов отворил дверь, остановился перед проемом, как перед зияющей ямой, сказал едва слышно, почти прошептал:
– Не предавай себя, если сможешь. И даже если не сможешь, все равно не предавай. Живи.
Олег остался один. Вечером жара ушла, дождь заполоскал по листьям... Олег сидел и смотрел в дождливый сумрак за окном... «Зачем живешь?» Он не знал ответа. Впрочем... Это смотря что считать жизнью: если создание иных миров или иных химер, то да, его жизнь никчемна и напрасна. Ну а если... А что – «если»?
Он сделал кого-то счастливым? Или – счастлив сам? Искать ответ в книгах? О чем могут рассказать книги, кроме очевидного?.. Впрочем, любовь тоже очевидна, но еще никто о ней не рассказал так, чтобы поняли те, кто лишен дара любить. Тогда – что остается? Как в мудреном пионерском девизе: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но что искать и почему не сдаваться, когда найдешь, от пионеров скрыли. Когда Данилов сам был пионером, девизом их отряда были слова Валерия Чкалова: «Если быть, то быть первым». Какое-то время Олег даже следовал ему.
Понимание, что первенство – это одиночество, пришло потом. Когда он уже привык быть первым.
А Иван Кириллович проспится. Пусть не от жизни, а всего лишь от пьянки. А там, глядишь, вместе с хмелем пройдет и горечь. А лукавое сознание, спасая душу от раздирающей тоски, придумает прожитым годам не просто оправдание, но найдет в минувшем много глубокого, важного и цельного. Ведь большинство живет даже не как бог на душу положит, а как нелегкая вынесет, и потом, в мирной или не очень тиши пенсионных раздумий, люди придумывают себе принципы, по которым якобы жили, и идеи, которым якобы следовали... Или ничего не придумывают, и к жизни их привязывают привычки. Закон «отрицания отрицания» срабатывает во всем своем разрушительном величии, а потому Ермолов прав в одном: мир принадлежит молодым, только они живут надеждами на блестящее будущее и иллюзиями великих воплощений, всем остальным остается лишь память о прошлом и сожаления о несбывшемся.
Звонок в прихожей снова разразился длинной переливчатой трелью. Или это Ермолов вернулся, чтобы добавить в квинтэссенцию вселенской тоски и самобичевания ноту здорового оптимизма?.. Вряд ли. После принятой дозы горячительного он витает в переменчивых чарах Алголя <Алголь – затменная переменная звезды Персея. Арабы назвали ее именем одного из демонов зла; то же название получил у них и любой пьянящий напиток.>, а из когтистых лап этого беса вырваться не просто.
Данилов подошел к двери и распахнул ее. На пороге стояла Даша. В руках у нее была объемная сумка-рюкзачок.
– Не ждал?
– Не ждал.
– Хм... Мне что, вот так и стоять? Может, войти пригласишь?
– Входи. Только у меня бедлам.
Девушка сбросила ветровку, повесила на крючок, тряхнула мокрыми волосами.
– Ну что ты на меня так смотришь? Считай, я пришла извиниться за все, что произошло там, у реки.
– Бывало хуже.
– Я имею в виду не тех, из джипа, а когда... Ну когда меня в машину, а тебя скрутили.
– Я же сказал.
– Можно мне пройти?
– Проходи.
В комнате Даша огляделась, округлила глаза:
– У тебя не бедлам, у тебя тут гибель Помпеи!
– Предупреждать о визитах надо.
– Это экспромт.
– Тогда и общий бардак в кубрике будем считать экспромтом.
– Будем.
В комнате повисло молчание. Оно обступало, как вата.
– Ну что ты застыл, Данилов? Делай что-нибудь! Предложи девушке крюшон, сигарету, чай, кофе, шоколад! Разлейся соловьем, покажи, какой ты умный и замечательный! А то ведь через пять минут я тут скисну и умру!
– Прекрати балаболить. Тебе ведь невесело, а?
– Да. Невесело. Можно я закурю?
– Валяй. Крюшона нет, а чай сейчас будет.
Данилов прошел на кухню. Задумчиво посмотрел на гору посуды в раковине...
Выудил две пиалы, тщательно вымыл, сполоснул подошедшим за пять минут кипятком заварной чайник, высыпал более чем щедрую порцию заварки, залил, накрыл полотенцем. Вернулся в комнату, сел в кресло, закурил.
– Ну не сиди таким мрачным монументом, Данилов! На самом деле я жутко смущена, а ты... Я не знаю, как вести себя с умными взрослыми мужчинами! Не приходилось!
– Разве?
– Ну... Только как примерной дочери серьезного родителя. А самой – нет.
– Сейчас заварится чай.
Олег сходил на кухню, вернулся, расстелил на столике чистое полотенце, принес пиалы, чайник, сахар. Разлил чай.
– Ты так и будешь молчать, Данилов?
Олег пожал плечами.
– Может быть, ты думаешь, я тебе на шею пришла вешаться?
– Да нет. С чего?
– С чего... – задумчиво повторила Даша. – А ни с чего! Просто вот возьму и обниму! Оттолкнешь? Ты понял, почему я пришла?
– Тебе плохо.
Даша помолчала, кивнула совсем по-детски:
– Да. Мне плохо. Ты догадался, потому что веду себя как истеричка?
– Просто ко мне приходят люди, которым плохо. Когда им хорошо, им не до меня.
– Если людям хорошо, им вообще ни до кого. Разве не так?
– Так.
– И обижаться тут не на что. А ты правда странный. Вроде взрослый, а рассуждаешь как ребенок. И вид у тебя совсем такой же: «За что меня наказали?»
Наверное, это от беззащитности. Но ведь беззащитность – это не слабость?
– Нет.
– Вот и я так думаю. Она делает человека сильным и оставляет добрым.
Когда-то у меня папа был таким, только... Он всегда так боялся показаться слабым, что надел на себя маску «несгибаемая воля», и она победила его, эта маска. Он перестал замечать живых людей. И понимать. Он видит только их маски.
– И тебе от этого плохо?
– Мне много от чего плохо.
– Это просто юность. С возрастом пройдет.
– С возрастом все пройдет, даже жизнь! Только я не хочу жить в клетке и одноклеточным! Данилов улыбнулся грустно:
– Часто вся обида юности состоит лишь в том, что нам кажется, что все лучшее в этой жизни уже было и завершилось до нашего рождения... Было до нас и без нас. Или – будет потом, но тоже без нас. Это пройдет.
– Что ты читаешь мне сентенции? Я вовсе не дитя неразумное... А ты отгораживаешься от меня этим поучительным тоном, словно забором.
– "О чем бы ни спросил бы, зачем бы вдруг да ни разжал уста, опять дежурное «спасибо», потом резервное «пожалуйста» <Из песни Михаила Щербакова.> – негромко напел Олег. – Извини.
– Это ты извини, что я тебя загружаю... Просто... Я знаю, все лучшее есть сейчас, но оно где-то не здесь, не со мной, вот что! И я загнана в какие-то рамки, мне в них тесно, неуютно, муторно, но другой жизни я не знаю и... боюсь.
А что может быть горше – тосковать о жизни и не видеть даже, а чувствовать, как она проходит мимо?..
Олег ничего не ответил, просто смотрел в одну точку.
– Прости. – Девушка подняла лицо, посмотрела на Олега, покраснела. – Я немного выпила. Или – много. Для храбрости. Больше всего я боялась, что ты меня сразу прогонишь.
– Как ты меня нашла?
– Просто. Ты же сказал, что ты журналист. Я объехала две редакции, и уже во второй мне тебя «сдали». – Девушка усмехнулась. – В хорошем смысле этого слова. А адрес дали в твоей редакции. С лестными для тебя рекомендациями.
– Да?
– Сказали, что ты желчный, злой, самоуверенный, бесцеремонный и непорядочный. Возможно даже, гуляка и ловелас. Прямо как у Жоржи Амаду. Я была заинтригована.
– Что-то много лести для одного.
– Там такая молодая тетя с телячьими глазами. Похожая на яблоко «белый налив». С гнильцой. Как ее? – Даша наморщила лоб. – Блудилина.
– Сочиняешь.
– Да нет же!
– Мадемуазель Блудилина не выговаривает существительное «ловелас». Потому что не знает его значения.
– Ну... Она выражалась проще: «жлоб» и «подонок». Ну и всякие другие слова. А я перевела. В меру своей испорченности, начитанности и внутреннего романтизма натуры. Это плохо?
– Замечательно.
– Вот и я так думаю. – Даша взяла с пола рюкзачок, вытащила початую длинную бутылку. – Я хочу еще выпить.
– Есть повод?
– Дождь льет.
– Причина существенная.
– Ну что ты опять? Снова «свекор» проснулся?
– Бокалы в шкафу.
Даша встала, взяла из шкафа два бокала, поставила на столик.
– Нет, ухажер из тебя никакой, Данилов.
– У меня было трудное детство.
– И девчонки сами вешались тебе на шею.
– Нет.
– Я знаю. Их пугала даже не твоя серьезность, а боязнь показаться неуместными. И – глупыми. Ты всегда был таким?
– Уже не помню.
– Ты кажешься слишком умным. Это напрягает.
– Нам всем в этой жизни не хватает беззаботности. И это не зависит от возраста.