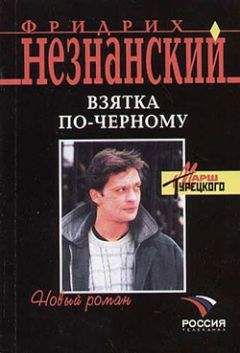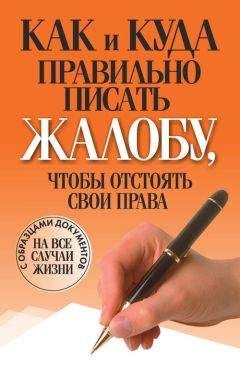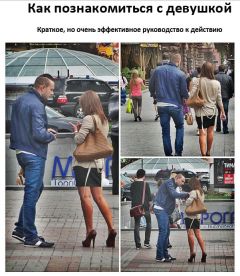Ознакомительная версия.
— Чего это ты его защищать-то вздумала? Или себе приглядела? Брось, девка! А ведь тебе еще не все рассказываю. Чего он ночами со мной выделывал. Это только взрослая сильная баба выдержать может. А чего во сне бормотал-то. Вражина. Может, шпион даже. Чека разберется! — слышался голос Марьи.
Ну, вот и все. Подписала ты себе приговор, дура-баба. И Оксанке заодно. Малолетку жаль, но на войне как на войне.
Он бесшумно крался вдоль болота, держа женщин в поле зрения. Вот они примостились на кочках, обрывают ягоды, переходят дальше, белые платки мелькают среди низкорослых берез. Сначала рядышком, потом все больше расходятся, и только перекликаются друг с другом. Вот Марья присела возле бочага, по краю которого вызрели особенно крупные ягоды. Он метнулся к ней, она вскочила, услышав треск сучьев.
— Оксанка? — голос ее дрожал. — Ты, Анджей? Увидев его, Марья бросилась было бежать, но он уже схватил ее, прижал к себе, зашептал:
— Тихо, милая, я ж люблю тебя.
Женщина молчала, парализованная ужасом. Нож вонзился ей в спину, на уровне сердца.
Глаза медленно заволокла пленка, тело обмякло в его руках. Он вытянул нож и, стараясь не испачкаться кровью, подтащил тело женщины к вязкому берегу, столкнул в бочаг. Темная вода сомкнулась над нею. Туда же полетела корзинка.
Вот и все, прощай, Марья! Он вытер нож о траву. Звук за спиной заставил его медленно обернуться. За тонкими стволами болотных деревьев стояла Оксанка. Зубы ее стучали так громко, что заставили его опомниться. Нет, еще не все!
Он шагнул к ней, Оксанка заверещала тонко и отчаянно. Как пойманный заяц, усмехнулся он про себя. В следующую секунду, бросив ягоды, девушка стрелой помчалась прочь.
Он не стал догонять ее сразу, не побежал по ее следам. В нем проснулся некий охотничий азарт. Быстро обогнув болотины, он выскочил на поле, спрятался в высокой ржи.
Она вылетела из леса минут через семь. Лицо искажено ужасом, рот распахнут в беззвучном крике. Оглянувшись, решив, что ушла от погони, она припустила еще быстрее по узкой тропке, проложенной среди колосьев. В несколько прыжков он нагнал ее, схватил, повалил, закрыв рукой рот.
— Ну что, попалась, пташка? — хрипел он, чувствуя, что бешеное желание рвется наружу.
А чего ж не побаловаться напоследок? Рука его по-хозяйски шарила по ее телу. Девушка билась в его руках.
— А ну-ка лежи смирно! Ты ведь любишь меня, верно? — ухмылялся он в обезумевшие от ужаса глаза.
Она все билась, все пыталась выскользнуть из его цепких рук. Ее сопротивление и беззащитность возбуждали его до предела. Он рвал ее одежду, теряя рассудок от юной груди с торчащими розовыми сосками, от темного треугольника внизу нежного, плоского живота. Он терзал тело, которое не принадлежало еще никому! Навалившись, раздвинув ее ноги, он вонзился в нежную, упругую плоть. Он насиловал ее с первобытной яростью, сжимая руки на тонкой белой шее, впившись губами в ее рот, чувствуя соленый вкус крови. Ее пальцы царапали его спину, но становились все слабее и слабее.
Он наконец отвалился. Лежал, раскинув руки, глядя в синее-синее небо.
Такими же синими были глаза Оксанки, когда она была жива.
Первым его побуждением было утопить девушку. Но потом он вспомнил деда Шмакова, и змеиная ухмылка пробежала по его тонким губам. Он отнес ее в сарай, где прежде хранилось сено местного ксендза, сбежавшего из села от советской власти.
Засыпав тело соломой, оставил дверь приоткрытой, чтобы нашли.
Когда он вышел на дорогу, уже вечерело. Остановив попутную машину, Зингер поехал во Львов.
ИЮЛЬ 1945, ЛьвовВечерело. Торговля на Центральном львовском рынке шла на убыль. Некоторые лотки уже пустовали — торговцы складывали товар, другие еще зазывали припозднившихся покупателей. Между рядов бродил тщедушный мужичонка с безволосым, будто обожженным лицом.
Я увидел Паленого сразу, как только он появился на рынке. Его трудно не заметить.
Такие лица бывают у ребят, горевших в танке. И я подумал, что это своего рода удачная маскировка — этакая безволосая рожа. Герой войны и труда, ядрень корень.
Я шел параллельным курсом, по следующему ряду. Паленый остановился возле мужика-торговца, я тут же начал торговаться с дебелой теткой по поводу вареной картошки. Верно все же мы рассчитали: если в группе есть бандиты, наверняка скрысятничают, пойдут на рынок торговать. Продадут и мать родную. Не то что американскую тушенку по ленд-лизу. Каждая банка которой учтена и записана. Дурье-ворье. Впрочем, нам это на руку. Паленый то и дело поправлял солдатский сидор, который болтался у него за плечами. И я прямо-таки видел очертания банок. Вот он стряхнул мешок, развязал тесемки, вынул банки. И тут двое возникших как из-под земли бравых ребятишек в штатском налетели на гражданина Паленого, азартно заламывая ему руки. Я со своим кульком вареной картошки отошел в сторону, наблюдая за активностью местных бойцов. Паленый возмущенно орал:
— Что такое? в чем дело?
Один их «штатских» совал ему в нос банку тушенки.
— Это что такое? Где взял?
— Купил! А че, теперь уже и купить ничего нельзя? — вопил Паленый.
— У кого купил? Когда? — не отступали ребятишки Заречного.
— Что, я помню? Мне паспорт не показывали.
— Ладно, разберемся!
Они поволокли преступный элемент к выходу. Что ж, теперь мой выход, почтеннейшая публика!
Лошадь, запряженную в телегу, я заприметил сразу, как появился в этом оазисе частной собственности. Она скучала, отгоняла хвостом мух, пока хозяин пытался сбыть с рук тухловатое мясо. Перемахнув через прилавки, я впрыгнул на телегу, ухватил вожжи, свистнул, мол, эге-гей, залетные!.. Лошадка понеслась напрямую, снося ящики, мешки, прочую дребедень. Я стол во весь рост, лошадь мчала меня к воротам рынка, возле которых замешкались конвоиры. Это было красиво! Возле ворот я чуть осадил, но не слишком, ровно настолько, чтобы сопровождающие Паленого лица как бы в испуге шарахнулись в стороны.
— Садись, мужик! — крикнул я.
Паленый, надо отдать ему должное, соображал быстро. Он вскочил на телегу, и мы вылетели на площадь, пронеслись по бульвару, свернули в тихую, обсаженную кленами улочку.
— Все, это конечная, — объявил я, спрыгивая с телеги. — А то, поди, уже погоня организована. Линять отсюда нужно.
Паленый последовал моему примеру, резво спрыгнул на землю.
— Ты это. Ты чего это, мужик? Зачем ввязался? — подозрительно спросил он.
— А я чекистов не люблю, — простодушно улыбнулся я. — Кто им враг, тот мне друг.
— А с чего ты взял, что они из «органов»?
— Так видал я их. Во всех ракурсах. А ты что, не доволен? Так вернись, то-то они обрадуются! Обеспечишь им премию!
— Любопытный ты мужик. Что ж, спасибо тебе. Про-щевай! — Он собрался было «делать ноги», что никак не входило в мои планы.
— Спасибо в карман не положишь. — крикнул я.
— Ну, говори, сколько я тебе должен? Только по-быстрому, — прищурился Паленый.
— Да ничего ты мне не должен, дурила! Я ж о чем: посидеть в кабаке, выпить, погутарить с интересным человеком.
— Эт-то можно! Это дело хорошее. Только чур, кабак я выбираю. А то кто тебя знает.
— Ох, и подозрительный ты мужик! А если ты меня сейчас приведешь на «малину» и чиркнешь ножичком? Ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанское! Веди!
Мы нырнули в соседнюю подворотню, прошли проходными дворами, покружили проулками, попетляли с полчаса по улицам славного города Львова. Это он, маромой, проверял, нет ли хвоста. Я послушно бродил за ним, развлекая фигуранта болтовней. Наконец мы приземлились в подвале, оборудованном под пивную. Полумрак освещался лишь светом керосиновых ламп на деревянных столах. Взяли графин водки, пару соленых рыбин, хлеб. И начали задушевную беседу.
ДЕКАБРЬ 1945, КолымаБесконечный день подходил к концу. Я упал в снег, обняв бревно, и не мог подняться и занять свое место в цепочке людей, спускающихся с горы. Каждый нес на себе бревно, и все торопились домой: и конвоиры и заключенные. Вторую неделю плевки замерзали на лету, стало быть, было ниже пятидесяти. На таком морозе силы тают почти мгновенно.
Я лежал и не мог подняться. Конвоир Терентьев, очень вежливый сытый мужчина, стоял надо мной и говорил:
— Послушайте, старик! Хватит притворяться! Чтобы такой лоб, как вы, и не мог тащить такую щепочку? Вы явный симулянт! Вы хуже фашиста! Вы мешаете Родине залечивать раны войны!
— Это ты фашист, — ответил я. — Ты избиваешь умирающих. Как ты будешь рассказывать своей матери, что ты делал на Колыме?
Сейчас он меня убьет, равнодушно думал я. Удар сапога пришелся по пояснице, но боли я не чувствовал. Развернув меня сапогом, он прошипел:
— Поговори еще, пыль лагерная! Я тебя завтра пристрелю, понял? Завтра!
Ознакомительная версия.