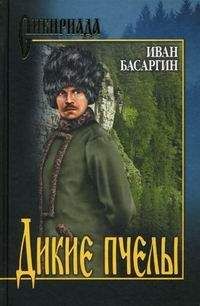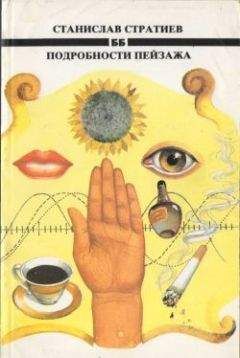Дед беспомощно оглянулся по сторонам и, отвлекающе кашлянув, крикнул в сторону ельника:
— Гриха, смотри в оба за Ромкой… Где этот огарыш бегает? — Александр Федорович, не глядя на Карданова, взвалил на спину мешок и размашисто зашагал по тропе…
…Ромка гонялся за бабочкой. Навстречу попадались огромные, высотой с него, цветы с розовыми чашками.
Он не заметил, как отдалился от тропинки, выскочил на ослепительно-яркую на солнце поляну, парящую запахами цветов и незнакомых ему растений.
Вдруг он застыл на месте и в глазах засветился страх: от ноги, извиваясь, уходила узорчатая змейка. Ступни заныли от холода, как будто он стоял не на теплой земле — на льдине. Змейка ползла по сухой порыжевшей хвое, между кустиков земляники, и в ее маленьких глазах-бусинках тоже поблескивал ужас и неразделенное желание побыстрее убраться в валежник.
Ромка заплакал и, чтобы сузить свое пребывание на страшной земле, остался стоять на одной ноге, вторую же, словно утенок, поджал под себя.
Поблизости послышались голоса: Вадим с Грихой бежали в его сторону, однако по мере их приближения страх из Ромки не уходил, а еще туже перетягивал живот.
Гришка сразу разобрался в причине страхов своего племянника и, ведомый его взглядом, направился к куче валежника. Тыркнул в него палкой, ворохнул и увидел замершую в испуге змейку. Придавил ее палкой к земле.
— По копылу ее, по копылу! — азартно подбадривал его Вадим.
Ромка, затаив дыхание, наблюдал за расправой над змейкой и незаметно для себя опустил вторую ногу. Но ему все равно казалось, что змеи притаились и наблюдают за ним из-за каждой травинки, из-за каждого кустика.
Его бесцеремонно стронули с места: это Вадим отвесил ему шлепок.
— Вперед, Волчонок! — крикнул беженец и устремился к тропинке. За ним, размахивая пустым рукавом, побежал Гриха.
Внимательно следя, куда ступают ноги мальчишек, тем же путем сиганул за ними Ромка.
На место пришли заполдень. Высокие ели да сосны зашторили небо, кругом стоял теплый ароматный сумрак с редкими прострелами голубого света. Неподалеку, облизывая хвойные бережки, корневища деревьев, белые песчаные проплешины, тек ручей. Он брал свое начало у Андреевских ключей, серебристо бежал километра полтора на север, чтобы окольцевать Лисьи ямы.
Карданов, сбросив со спины мешок, осмотрелся. Его поразила обособленность, какая-то первобытная заброшенность места.
— Во, гляди! — воскликнул Вадим, указывая рукой куда-то вверх.
На самой макушке старой ели, между двух расходящихся ветвей, пристроилось воронье гнездо.
Разметили поляну. Непростое, оказывается, дело в такой чащобе обронить на землю спиленное дерево. Сосны с елями приняли круговую оборону и не было в ней ни малейшего просвета.
Раздался звенящий стук топора — это беженец, по подсказке Александра Федоровича, начал делать надруб на комле лесины.
Ромке надоело стоять без дела, и он, озираясь по сторонам — не извивается ли где поблизости глянцевитая пестрота, — уселся на бугорок и стал наблюдать за взрослыми. Он слушал, как вжикает пила, и с интересом ждал, когда, наконец, начнет падать дерево. Комары и мошки постепенно освоили его щеки, шею, голые ноги и уже без стыда и совести начали пить из него кровь. Волчонок сорвал ветку папоротника и без устали сражался с крылатыми кровопийцами.
Вадим, словно, матрос пиратского брига, по сучьям-реям устремился на верх ели, чтобы разорить воронье гнездо. Внизу звенел голос Грихи: «Не туды, не туды — забирай правей…» Но Вадим уже и сам видел то, что искал и до чего осталось подать рукой. И он уже протянул руку, чтобы залезть в корзину гнезда, как вдруг откуда ни возьмись появились две вороны. Они с жестяными криками ринулись на захватчика и вскоре на их белиберду со всех сторон стали слетаться другие птицы. Вадим растерялся, не зная, что предпринять. Снизу кричал Лука:
— Сигай, Вадик, вниз! Сигай, говорю, — при этом Карданов засунул два пальца в рот и пронзительно засвистел.
Дед, не обращая внимания на поднявшийся переполох, продолжал в одиночку пилить дерево. Ромке вся эта сцена показалась и забавной, и страшной. Спрятавшись за ствол дерева, он наблюдал оттуда за сражением беженца с воронами. Он хотел что-то крикнуть, но все согласные звуки, процеживаясь сквозь волчью пасть, улетали в небытие, родив лишь нечленораздельное мычание. Он мучился и чувствовал себя за прозрачной стеной, отгородившей его от остального мира.
Дед бросил пилить, с крехом разогнулся и тоже стал смотреть на ошалевших ворон.
— Тот, кто зорит чужие гнезда, человеком никогда не будет. — И обращаясь к Луке: — Ты, Лексеич, скажи своему мальцу, чтобы он эту моду бросил… Счас повалим сосенку, пусть с Грихой обрубают сучья…
Вороны еще долго кружились над лесом, базарили, а затем враз замолкли и в один момент улетели.
Удары топоров по дереву сопровождались монотонными звуками пилы — вжик, вжик, вжик, вжик…
Ромка, устав бороться с все прибывающими полчищами комаров, сидел на свежем пеньке и без особого интереса наблюдал за снующими у ног муравьями, строящими себе жилье. Волчонку хотелось есть и, чтобы хоть, немного утолить голод; он стал срывать близкие лепестки заячьей капусты и отправлять их в рот. Но поживка не очень-то насытила, а лишь разожгла аппетит. Под ложечкой у Ромки закислилось, отчего во рту забила слюна.
Послонявшись возле Грихи с Вадимом, он незаметно для себя изменил курс и приблизился к мешку, где, по его расчетам, должны быть харчи.
Александр Федорович подавал команды:
— Ты бери ее на вздым… На вздым, леший тебя подери! Ноги отдавишь, Лексеич, — покрикивал на Луку дед Александр.
Поднатужившись, он подхватил с земли конец бревна и ловко для своего возраста поднял его до уровня груди. Карданов же потел, надсаживался, а дерево, словно удерживаясь смоляными присосками за что-то невидимое, ни в какую не желало ему подчиняться. И бросив конец лесины на землю, беженец чертыхнулся и дал Александру Федоровичу отмашку рукой — дескать, кончай рвать жилы, выдели передышку.
— Ну и работничек, — просипел дед. — Иди, Лука, к хомолку, а я на твое место встану. Так мы и до ночи не сладим…
— А куда нам, собственно, гнать? День длинный, фронт далеко. Еще сто раз справимся…
— Вчерась повстречал Матвея из партизанского отряда, — Александр Федорович стряхнул с руки красного муравья. — Маленько погутарили… просил у меня соли. Хотел у него выпытать — как там, на фронте? Можа, думаю, им по радиу дают какую сводку… Ни хрена сам толком не знает, но вроде бы наши заделали немцам какой-то котел. Я, правда, не понял, что это за котел, но с Матвеевых слов выходит так, будто фронт вот-вот пойдет пятами назад. Немцы, говорит, стали злей собак, жгут по ночам хаты, чтоб не было пристанища партизанам.
Вадим бесцеремонно влез в разговор взрослых:
— Пап, а можно мы с Грихой отнесем партизанам немного соли?
— А где ты ее видел, соль-то? Им надо, — Карданов неопределенно указал рукой куда-то на заход солнца, — не щепотку, а пуд-два… Где ж столько набраться?
— Тык надо в город смахать, — выпалил Гришка и почему-то на шаг отступил назад, словно сказал недозволенное.
Ромка понимал, о чем говорят взрослые, и ощутил во рту солевое привкусье.
— Утрись, Ромашка, — сказал дед и направился к мешку с едой.
Александр Федорович и Карданов одинаково медлительны. Беженец перед тем, как откусить хлеб, долго перекладывал его из одной руки в другую — не иначе как взвешивал, прикидывал, насколько оный может, да и может ли, заглушить в нем нестихающий голод.
Хоть поели они и не вдоволь, а все же расслабились. Карданова потянуло к прерванному в дороге разговору. Он лежал на спине и бурой хвоинкой щекотал себя по усам. Над макушками деревьев парили легкие облака.
— Так ты, Федорович, говоришь, что советская власть тебя обидела?
Керен и бровью не повел. Он сидел на земле, прислонившись к толстому пню, и внимательно разглядывал свою ладонь. В складках загрубевшей кожи ныла заноза. Он хотел было позвать на помощь Гришку, да раздумал и ногтем указательного пальца стал выковыривать осколыш. И будто не было на земле большей для него заботы, чем выскребать из кожи микроскопическую помеху. В глазах, однако, уже растанцовывалось раздражение — слова беженца задели деда за живое.
— Меня, Лексеич, обидеть может моя старуха или вот, к примеру, ты… Допустим, скажешь, что я у тебя штаны или рубаху спер… Вот в чем была бы обида. А тут другое. Советская власть высосала из меня всю кровь, и теперь я, как лягуха на льду…
Дед наклонился к лаптям и поправил онучи. И Карданов словно впервые увидел его руки — изуродованные, раскатанные вечной работой. Костяшки больших пальцев корявыми загогулинами выпирали на сторону.
— Да надоело об одном и том же лясы точить, — продолжал Александр Федорович. — Ты мне все равно не поможешь, а подбивать к согласию не надо…