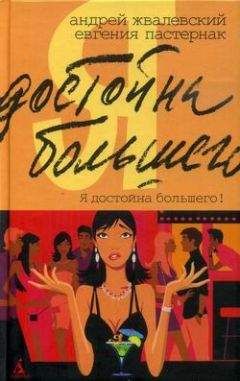Ознакомительная версия.
Я иду по русскому снегу. Я пророчу. Я вижу настоящее. А вы — не видите — его.
Я вижу: настанет день, и поднимется народ, и черные толпы хлынут по белому снегу на красные дворцы, и камень сметется живыми телами, и полетят по небу железные птицы, и железные груши упадут с небес и убьют всех, кого надо, и Великая Рос…
Заткните ему рот! Орет, будто наркоты накачался!
Откуда?! Откуда у него наркота?!
Ведро холодной воды принеси, Серега! Облей его! Пусть очухается! Г-гад…
Они не знают: мое тайное зелье у меня за ухом. Счастье моих видений заклеено грязным пластырем.
* * *
Он любил смотреть на Москву с высоты птичьего полета. С высоты бреющего полета самолета.
Ему казалось — он всегда летел над городом. Над землей. Над миром. Над драгоценностями и грязью. Над нищетой и лоском. Он одинаково презрительно улыбался и над россыпями алмазов, и над кучками дерьма. Он всегда был в полете, на крыле самолета, на белом коне, и конь его судьбы и удачи нес его над всем тем, что служило ему и что мешало ему — к тому, что услаждало его и вливало в него силы. «Я Ефим Елагин, — шептал он себе, щурясь, закуривая, с наслаждением затягиваясь. — Второго такого Ефима Елагина в мире нет».
Второго такого Ефима Елагина действительно в мире не было.
Он сам не считал своих капиталов. Он щупал рукой гладко выбритый, слегка раздвоенный, как копыто, подбородок: черт его знает, сколько у меня денег на счетах! Его снедало действие. Он делал. Он все время делал дело. ДЕЛО — вот было ключевое слово всей его жизни. Всей его недолгой, еще такой молодой жизни.
Он слишком остро чувствовал время. И, изгибая красивые, похожие на монгольский лук, холеные губы — женщины так часто засматривались на его губы, им так хотелось, он видел это, поцеловать этот чувственный манящий рот, этот властно выставленный вперед, военно-легионерский, офицерский подбородок, — он смеялся над временем, он презирал его, потому что знал: время изменилось. Время слишком, страшно изменилось. Оно содрало с себя красную маску, отбросило прочь личину порядка и закона; эпохи содвинулись, друг на друга наложились, как обглоданные куриные кости, блестящие ослепительными громадными люстрами и ювелирными витринами дни и горькие, нищие ночи, люди растерялись, люди не знали, куда им идти, бежать, что делать, за что хвататься, как зарабатывать деньги, не изменяя себе и не калеча душу свою; и многие в этом Другом Времени изменили себе, искалечили себя, предали себя, стали не тем, чем их явил на свет Бог; а вот Ефим Елагин — о, Ефим Елагин себе не изменил, нет! Он раскрыл изменившемуся времени объятья. Он плыл в другой эпохе, как рыба в воде. Он блаженствовал в ставшем совсем ином мире, как блаженствует распаренный в сауне. Он был рожден, чтобы плавать и кувыркаться в деньгах, чтобы стать богатым, чтобы — преуспевать.
Он был рожден в богатой семье — и стал богатым, покатившись на богатых серебряных коньках по накатанной дорожке. И набрал скорость. И опередил многих своих соперников. И, хоть не вышел еще на финишную прямую — до финишной прямой было еще далеко, — он уже оглядывался на тех раззяв, что остались далеко позади, за его мускулистой, загоревшей на пляжах Ривьеры, Ниццы, Кипра, Канар и Майорки, широкоплечей красивой спиной.
За спиной самца — дельца — упрямого козерога.
Он был по знаку Зодиака Козерог, и часто сам себе, когда смотрел в зеркало, когда плыл по слепящей солнечными бликами водной дорожке бассейна, когда обнимал в постели женщину и толкал ее, бодал, пронзал собою, как огромным рогом, когда, наклонив бычье-упрямую, по моде коротко стриженную голову, спорил с конкурентами и выигрывал спор, — казался живым козерогом, тельцом, быком, идущим напролом, выставив рога и возбужденно взмахивая хвостом; Козерог, говорил он себе, я же Козерог, я прободаю любую стену, а меня — меня никакая Европа не оседлает.
Он отошел от окна. Из окна его роскошного, по последней мировой моде отделанного и обставленного жилища — элитной квартиры на Коровьем валу, пять тысяч долларов квадратный метр — была видна разноголосая чересполосица московских крыш и слепяще-золотые, начищенные к Рождеству купола храма Христа Спасителя. Он взял в руки массивную хрустальную пепельницу, повертел. Солнечные блики заиграли на его гладком, с широкими, торчащими, как два кургана над степью, скулами, выхоленном лице. Такое лицо могло быть у крестоносца. У голливудского актера. У нефтяного короля. У звезды бокса. Такое лицо могло быть у принца Английского, у князя Монакского. Князь Монакский! Он усмехнулся. Глядел на себя в зеркало напротив. Огромное зеркало венецианского стекла на стене, как огромный холст, золоченая толстая рама, и в ней — его портрет. У него и портреты свои были — он заказывал их лучшим, модным московским художникам: Витасу Сафонову, Андрею Белле, Владимиру Фуфачеву, Наталье Нестеровой. Ивану Шипову он портреты не заказывал и живопись у него не покупал — он считал Шипова деревенским мазилой. Зеркало вбирало в себя его лицо, выпускало обратно, на волю. Он сузил глаза и стал похож на лучника Чингисхана, трясущегося на коротконогой монгольской лошаденке, с колчаном за плечами, с коротким тяжелым мечом на боку.
ПРОВАЛ
Алая Луна. Кровавая Луна. Луна цвета крови. Она стоит в окне, как круглый красный колодец, и туда невозможно заглянуть.
Красная Луна вызывает отчаянные приливы в земных морях и океанах. Океан надвигается на сушу, вздымаются цунами, вскипают темные воды, клубится туман над Оком Тайфуна. Клубится красный туман, и сквозь туман просвечивает красный страшный лик. Вода принимает людское обличье. Вода глядит на Луну искаженным лицом. И Луна отражается в ней, как огромный красный звериный глаз.
По алому кругу Луны медленно плывут, летят черные тени птиц. У птиц широкие крылья, птицы медленно взмахивают ими, подбирая длинные ноги под брюхо. Черные птицы летят мимо красной Луны за Океан.
Не уходи от окна, стой перед окном, гляди. Гляди до конца. Слушай: это я пророчествую.
Птицы летят за Океан. Они летят над пропастью безмолвной воды, таящей внутри силу приливов.
Земля и Луна — обе принадлежат Богу, сотворившему их. Человек только мыслит, что он владеет ими.
Человек мыслит, что он владеет Луной, Землей, Марсом и иными планетами, кружащимися вблизи него; что он владеет домами и городами, что возвел, животными и растениями, что вырастил, пищей, которую приготовил на огне, своими женщинами и своими наследниками, своим богатством, золотом в своих горшках и невидимыми деньгами в своих денежных хранилищах, похожих на царские дворцы. Человек мыслит так: это все мое! Это я сделал! Врешь, жалкий человек. Это не ты сделал. Это сделал Тот, Кто выше тебя. И тебе до Него не достигнуть, хоть ты и мыслишь, что ты создан по Его образу и подобию.
И все начертано. Все уже написано на скрижалях.
Все уже нарисовано кровавыми, красными иероглифами на черном фоне вечной ночи. Красный иероглиф — «ЖИЗНЬ». Красный иероглиф — «СМЕРТЬ». Красный иероглиф — «ЛЮБОВЬ».
А разве это не один и тот же иероглиф?!
Сейчас выйду на улицу, в ночь и снег, и так, босиком, пойду по городу; и мои следы будут застывать на снегу черными иероглифами. Побреду босиком по снегу, задеру голову, погляжу на дома, на яркие костры ночных окон. Люди не спят. Сидят там, за оконными стеклами, в своих жилищах, пьют чай, ссорятся, смеются, украшаются перед зеркалом, спят друг с другом в роскошных либо нищих и грязных постелях, едят, дремлют, кричат от горя, всовывают голову в петлю. Над моей лысой головой — башни Кремля, башни огромных каменных домов, выстроенных людьми из большой гордыни. Железные повозки текут, чиркают колесами, шныряют взад-вперед мимо меня. Выпить желаю; да закрыты в этот час магазины и лавки, открыты лишь ночные ресторации, да они для богатых. А мне остается вокзал, вокзальный буфет. В буфете дают дешевый кофе, дешевые сладкие булки, дешевую ледяную, из холодильника, куриную ногу, всю в пупырышках, и даже могут налить полстакана дешевого красного вина. У меня в кармане старого пальто, что подарила мне проститутка с Красной площади, есть еще немного бумажек и монет. Куплю стакан вина, будут пить красное вино и смотреть на красную Луну в вокзальном окне. Я, Алешка Юродивый, мужичонка, лысый, босой пьяница, седые космы вокруг лысины по ветру вьются, и лет мне уже немало, не мальчик я, не сосунок. Сапоги пропил, щетиной оброс, чепуху мелю, ерундой закусываю, а все меня слушают, что скажу, думают: а вдруг что опасное накликаю!.. — а кое-кто пальцем у виска крутит: сбрендил, мол, совсем мужик. Штаны подтяну, погляжу на Луну. Бомж, бомж — будто кто в колокол бьет: бомм, бомм.
А колокола храма Христа Спасителя мне отходную прозвенят. И вся Москва по-надо мною, как невеста, в слезах наклонится, провожая; и золотые косы Москвы упадут со снежной груди — мне на голую волосатую грудь, ибо к смерти я и пальто пропью, и часы, и крест нательный тоже пропью.
Ознакомительная версия.