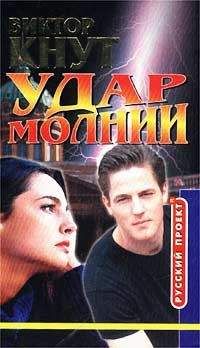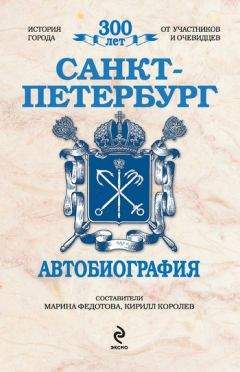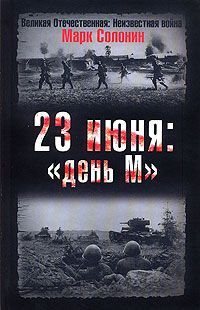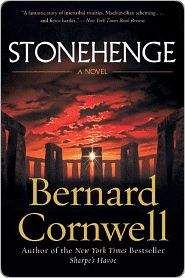— Мама! — Полина выскользнула из кресла и, гремя по полу задниками домашних туфель, побежала открывать дверь. Я сжался, предвкушая все те удовольствия, которые мне сейчас доставит Татьяна: обреченные взгляды, вздохи и укоризну в голосе. И показную брезгливость — она давно уже испытывает ко мне отвращение и не может удержать это в себе, щедро выплескивая наружу. Ей даже противно со мной разговаривать… Это была не Татьяна.
— Папа, — Полина вернулась в комнату, — приходили опять осетины. Я сказала, что тебя нет.
— Правильно, дочка. Спасибо.
— Они мне не верят, — продолжала она. — Они говорят, что ты прячешься, но они тебя все равно достанут.
— Что еще говорят? — прокряхтел я.
— Мне — ничего. — Полина подошла к обеденному столу и извлекла из-под скатерти маленькую бумажку. — Они вчера долго болтали с Ларкой и передали тебе записку. Ты будешь читать?
Я нацепил очки, взял сложенный вчетверо тетрадный листок, с трудом развернул его трясущимися руками. «…Тебя, пидараса, будут трахать в жопу колхозом…» — сразу же бросилась мне в глаза одна строчка. Я перевел дыхание и заставил себя читать с начала.
«Что, мудак, — в своем любовном послании писали мне осетины, — долго прятаться будешь? Бесполезно, все равно ведь достанем. Не тебя, так твою старшую дочу. Ее интереснее даже. И никакие менты вам не помогут. Так что деньги на бочку! К сведению, сегодня включаем счетчик. Ты должен нам уже штуку баксов. Завтра будешь должен две штуки. Послезавтра — четыре. Поэтому продавай скорее свою халупу, выгоняй жену на панель и расплачивайся. В противном случае через три дня тебя, пидараса, будут трахать в жопу колхозом все, кто не побрезгует». И подпись: «Сам знаешь кто». И дата: «14 июня».
Очки запотели. Я аккуратно, по месту сгибов, сложил бумажку и держал ее, словно бомбу, потными пальцами.
Записка была написана женским почерком, без единой ошибки, без единой помарки. При всем при том, что Магоматов, Эмиров и иже с ними владели русским — разговорным русским — на уровне Эллочки Щукиной, а кириллицу они не могли отличить от китайских иероглифов. Если я отнесу эту записку в РУБОП и пожалуюсь, что мне угрожают, то осетины сделают удивленные лица и скажут: «Вах-вах! Как можно! Это писали не мы». И будут правы. Я несолоно хлебавши вернусь из милиции, а горячие кавказские парни сразу примутся за меня всерьез, от угроз перейдут к их исполнению и сделают мне очень больно. Ладно — мне. Они могут сделать больно Ларисе, они давно на нее положили глаз.
— Ты читала это? — спросил я Полину. Она кивнула в ответ. — Не обращай внимания, дочка. Такими злыми угрозами разбрасываются обычно слабые люди. Настолько слабые, что дальше угроз они пойти не способны. Так что это — только слова.
Я сам не верил себе.
— Да?… Слова?… А вот Л арка от этих слов вчера проревела весь вечер! Хачики последнее время не дают ей прохода. Она боится… Она собирается убежать из дому и найти себе человека, который сможет ее защитить. Она сказала, что на вас с мамой надежды нет. Мама занята только собой, а ты, папа… — язва Полина хихикнула. — Тебя Ларка назвала дегенератом. И еще кем-то… не помню.
Я молчал. Мне нечего было ответить. На меня, действительно, нет никакой надежды. Какой из меня защитник?…
В начале апреля, в самом расцвете того периода, когда отношения со старшей дочкой были почти идеальными, Лариса попросила меня о помощи.
— Леонидыч, — она последнее время называла меня Леонидычем. — Сделай хоть ты что-нибудь. Черножопые скоро сведут меня в могилу. Совсем оборзели…
Под «черножопыми» она имела в виду осетинов, тех, что три года назад скупили в нашем подъезде весь пятый этаж — три большие квартиры, — сделали там евроремонт и вселились туда целым табором. Три квартиры — три огромных семьи: три папы на дорогих иномарках, три мамы в красных косынках, древняя трясущаяся старуха и выводок бойких детишек, один из которых, Салман Магоматов, давно вступил в возраст половой зрелости и уже сам разъезжал на «мерседесе». Он-то впоследствии и доставил мне неприятности.
В подъезде поговаривали, что осетины успешно бодяжат водку, гоняют из Турции фуры со спиртом, чем и живут, при этом живут очень неплохо. На газоне напротив нашей парадной я часто видел их дорогие машины и завидовал: «Эх, устроились люди. Не то что я, неудачник». Этим мой интерес к богатым соседям и ограничивался. Они не знали меня, я не знал их. До тех пор, пока…
— Он чуть не порвал мне трусы. Облапал. Обмусолил всю шею, — то ли жаловалась, то ли смаковала этот момент Лариса. — Противно! В следующий раз меня изнасилуют!
— Возмутительно! — в сердцах я ударил кулаком по столу. Я даже отбил об стол руку. — Надо что-то срочно предпринимать! Ты готова дать показания участковому?
Лариса ловко стукнула костяшкой пальца меня по лбу.
— Леонидыч, ты, наверное, рехнулся. Какой участковый? Все менты у них давно куплены с потрохами. Они бегают к осетинам за водкой.
— Что же тогда? — мямлил я. — Что же… что же?
— У тебя остались знакомые, — кто мог бы по-мужски поговорить с этим Салманом?
Таких знакомых у меня не осталось. Я мычал и никак не мог разродиться хоть каким-нибудь предложением.
— Ладно, — махнула рукой Лариса. — Не бери в голову.
— Погоди… — я наконец принял решение. — Я сегодня же сам побеседую с этими негодяями.
— Ты хочешь сказать, что сумеешь намылить им морды? — рассмеялась Лариса. — Да ты крут, Леонидыч…
Нет, я не был крут; я не собирался мылить им морды. Я всегда отрицал насилие как форму возмездия; я ни разу за всю свою жизнь не ударил ни одного человека. Но ведь сила духовная в миллионы раз эффективнее силы физической. Исторические примеры этому лежат на поверхности — Дева из Домреми, которая повела за собой всю Францию; Фемистокл, сказавший Еврибиаду: «Бей, но выслушай!..»
И осетины меня внимательно выслушали. Не били, но выслушали. Посокрушались, согласились, что Салман поступил некрасиво, достали из бара бутылку хорошего коньяка. Я не помню, как вечером дополз до своей квартиры. Может быть, меня привели? Татьяна рассказывала, что соседка по площадке обнаружила меня мирно похрапывающим на бетонном полу возле двери. После этого я ушел в глубокий двухнедельный запой, а Салман дал Ларисе двухнедельную передышку. Но вот однажды он объявился на пороге нашей квартиры, блеснул золотой фиксой и зловещим тоном спросил меня;
— Помнышь, чито вчэра зыдэлал?
Какое там? Вчера я был пьян, как монгол.
— Пышлы покажу. — Салман улыбнулся, подмигнул выглянувшей из комнаты Ларе и поманил меня из квартиры. Я удивленно пожал плечами и поплелся следом за ним.
То, что он показал во дворе, чуть не лишило меня сознания.
Белый «мерседес», за рулем которого я часто видел Салмана, как обычно, подминал под себя газон возле нашей парадной. Блестящий красавец с темными стеклами, который явно стоил огромных денег. Блестящий красавец, вид которого портили разбитая фара и небольшая вмятина на правом крыле.
— Ты зачэм это зыдэлал? — громко спросил Салман, тыкая пальцем во вмятину.
— Я?!! Да вы что?!! — Я поперхнулся этим вопросом, слова застряли у меня, в глотке.
Салман наклонился и поднял с земли круглый булыжник, какие обычно встречаются по берегам горных речек.
— Вот этым, — пригвоздил он меня уликой. — Люды видэл, у нас эст савдэтэль.
Свидетели продаются сейчас в России по бросовым ценам. Их можно покупать пачками, и я доказал бы это в каком угодно суде. Но тогда, стоя возле разбитого «Мерседеса», я ничего не соображал с похмелья, был совершенно не в силах сопротивляться и безропотно принял на себя всю ответственность за разбитую фару, успокаивая себя мыслью о том, что, быть может, действительно, хлебнув водки, набрался смелости и напакостил осетинам. Вот только нетрезвый я никогда не был способен на подвиги. Даже на маленькие пьяные подвиги.
— Да нет, не может этого быть, — продолжал обреченно рыпаться я, понимая, что приговор мне уже подписан.
— Может… Может, — хохотал мой мучитель. — Машин портыл ты, доходяга. Пышлы, пиши манэ расдысак и налью табэ водки.
После подобного обещания я написал бы и сотню расписок. И миллион… Но хватило одной — на восемьсот долларов. И составленного под косноязычную диктовку Салмана письменного признания в хулиганстве. Осетины дали мне месяц сроку, чтобы собрать деньги, хотя и я, и они понимали, что этому не бывать. Ставкой в этой игре, скорее всего, была моя старшая дочка.
— Тебя развели, Леонидыч, — говорила она мне через неделю после этого случая. — Развели, понимаешь? Где свидетели, которые якобы видели, как ты швырял булыжник в машину? Покажи мне этих свидетелей. А где стеклышки от разбитой фары? Я искала их около «Мерседеса» в тот день, когда на тебя наехали. Ничего не нашла.