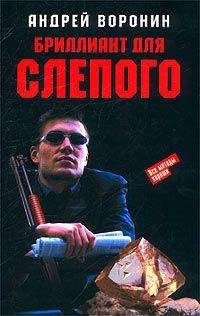Ознакомительная версия.
Никаких тезисов там, естественно, не наблюдалось. Там вообще ничего не было, кроме нескольких случайных травинок, россыпи мелких щепок и глубоко отпечатавшихся на сыром после дождика песке следов его любимых мотоциклетных берцев со шнуровкой до середины голени, частично перекрытых плоскими невыразительными отпечатками мокасин, в которых приехал Липский.
– Что-то потерял? – не удержавшись, спросил Кошевой, когда гость, внезапно умолкнув на середине фразы, снова вперил взор в истоптанную землю.
– Вчерашний день, – встрепенувшись, словно неожиданно разбуженный от сна наяву, ответил Липский.
Прозвучало это грубовато и не сказать, чтобы остроумно, зато пялиться себе под ноги он, слава богу, перестал.
Несмотря на сделанное заявление о будто бы зверском аппетите, ел он плохо – похоже, просто забывая, что надо положить в рот очередной кусок. Сегодня он был чертовски рассеян и задумчив, что бросалось в глаза, даже невзирая на его трескотню, зато пить продолжал, как губка. Чтобы через пару часов не получить вместо собеседника бесчувственное тело, Кошевой прибег к альтернативному варианту, принеся из дома лукошко лесных орехов. Орехи представляют собой почти чистый протеин и могут с успехом заменить мясо, а едятся они, как семечки, – раз начав, остановиться уже невозможно. Кошевой колол их прямо на столе рукояткой «смит-вессона» и подкладывал Липскому, а тот, не переставая пересказывать столичные новости, исправно глотал один за другим, пока не сглотал добрую половину лукошка.
После обеда, следуя стандартной культурной программе, они отправились на стрельбище. Видя, в каком плачевном состоянии пребывает гость, Кошевой сосредоточил все свое внимание на том, чтобы не дать ему нечаянно застрелиться. Но Липский, к его огромному изумлению, сегодня стрелял даже лучше, чем тогда в клубе. Он не промахнулся ни разу, и вид у него при этом был такой, словно он не палил по мишеням, а расстреливал своих кровных врагов. Заполучив обещанный ранее МГ – оружие, к которому надо, как минимум, привыкнуть, – он не просто поразил, а буквально уничтожил мишень, разнеся ее в щепки и оставив от нее только два покосившихся, неровно обгрызенных поверху колышка, на которых она крепилась при жизни.
– Впечатляет, – сказал Кошевой, принимая у него дымящийся, горячий пулемет. Он действительно был впечатлен, причем достаточно сильно. – Лично я после стакана так не могу.
– Стиль пьяной обезьяны, – сообщил Липский и опять посмотрел под ноги. – Помнишь?
Кошевой кивнул: да, он это помнил. В девяностых или чуточку раньше, когда просмотр на дому зарубежных фильмов посредством купленного по цене подержанного автомобиля видеомагнитофона перестал быть уголовно наказуемым деянием, среди всего прочего страну захлестнула волна увлечения лентами о боевых единоборствах. По счастью, схлынула она довольно быстро, но, как всякая волна, оставила на берегу памяти принесенный из дальних краев мелкий мусор – в частности, вот это словосочетание: стиль пьяной обезьяны. Оно живо воскрешало образ худого, одетого в какие-то серые лохмотья, заросшего редкой седоватой щетиной, пьяного в лоскуты старика, который, кривляясь точь-в-точь как насосавшаяся паленой водки макака, прыгал по столам в какой-то забегаловке, легко, одной левой, расшвыривая толпы противников.
– Помню, – сказал он вслух. – А помнишь эти объявления: меняю видеомагнитофон на автомобиль или квартиру?
– И наоборот, – сказал Липский. – Да, времечко было, вспомнишь – вздрогнешь. Ты чем тогда занимался?
– Учился на филологическом, – напомнил Кошевой. – Я же тебе говорил.
– Ах да! – Глядя в землю, Липский с силой потер ладонью лоб. – Прости. Что-то я нынче не в своей тарелке.
Это была чистая правда. С ним действительно что-то было не в порядке, причем до такой степени, что Кошевой, отказавшись от исповедуемого в нерабочее время принципа невмешательства, задал прямой вопрос: что происходит и не может ли он, Дмитрий Кошевой, оказать посильную помощь.
– Это вряд ли, – отверг предложение Липский. – Сдается, старик, ты уже сделал для меня все, что было в твоих силах, и вряд ли способен на большее.
Сделав это странное заявление, он глотнул водки прямо из горлышка стоявшей под рукой бутылки, взял с установленного под легким навесом длинного дощатого стола раритетную мосинскую трехлинейку, с клацаньем передернул затвор и припал щекой к прикладу, нащупывая длинным тонким стволом сердце самой дальней из маячащих в сероватой дымке ненастного дня фанерных мишеней.
Пока несостоявшийся отчим Женьки Соколкина демонстрировал случайному знакомому «heavy drunk monkey's style», попутно заедая французский коньяк собранными в средней полосе России лесными орехами, поименованный отрок тоже не терял даром драгоценного времени.
Правда, в отличие от Липского, глотал он вовсе не коньяк, но его это нисколечко не парило: он был непьющий – как по молодости лет, так и из принципиальных соображений. Кроме того, в данный момент времени ему, как и Липскому, было решительно безразлично, что глотать – хоть концентрированную кислоту, лишь бы с пользой для дела.
До кислоты пока не дошло, но пыли он успел наглотаться, казалось, на всю оставшуюся жизнь. А главное, все это было попусту: перелопатив тонны слежавшихся бумажек, он убедился, что только зря теряет время. Люди переезжали с места на место, умирали, рождались; никому и в голову не приходило сохранить для истории имена тех, кто в то или иное время населял тот или иной московский дом, учет здесь велся по совсем другому принципу. Да и толстая, постоянно что-то жующая тетка в капитанских погонах, которая впустила его в этот подвал, оказалась права: учетные записи, составленные ранее девяностого года, просто-напросто не сохранились. В самом деле, кому это надо – хранить этот пожароопасный, не представляющий ни малейшей ценности бумажный хлам?
Подвал являл собой странное сочетание несочетаемых, казалось бы, условий: здесь было холодно, душно, сыро и пыльно одновременно. Но Женька Соколкин в последнее время привык к странностям настолько, что они стали для него почти что нормой жизни.
Кроме того, как уже упоминалось, ему было все равно.
Интернет – отличная вещь; при умелом использовании в нем можно найти почти все что угодно – почти, но не все. Кое-чего там просто нет – надо полагать, ввиду полной ненадобности этой информации. А те, кому эта бесполезная для широкой общественности информация все-таки до зарезу нужна, вынуждены добывать ее по старинке, собственноручно копаясь в грудах заплесневелых папок и спрессованных временем, собственным весом и сыростью картонных листков прибытия.
По легенде, он был студент факультета журналистики (потому что легенду придумал Липский, который в данном случае предпочел двигаться по линии наименьшего сопротивления и не изобретать велосипед, действуя по принципу: «Пипл все схавает»), работающий над написанием курсового проекта, суть которого сводилась к восстановлению истории одного, выбранного наугад московского дома. Адрес этого «выбранного наугад» строения, в котором некогда проживала семья Французовых, где-то раздобыл все тот же Липский. В изложении Женьки, который всегда был вежливым мальчиком и умел производить хорошее впечатление на собеседников (особенно собеседниц и особенно пожилых), вся эта белиберда звучала довольно убедительно. Но он не без оснований подозревал, что никакие легенды не помогли бы ему продвинуться дальше порога, если бы не волшебное заклинание «Я от Марты Яновны», которое, казалось, могло открыть любую из существующих на белом свете дверей.
Их спонтанно образовавшийся тройственный союз был одной из тех самых странностей, к которым в последнее время начал привыкать Женька. Бывшая жена Андрея, Марта Яновна, ему нравилась – прежде всего потому, что была сногсшибательно, прямо-таки до боли, красива. Поначалу он даже ревновал и злился, подозревая, что нормальный мужчина, каковым, без сомнения, являлся Липский, просто физически не может всерьез захотеть расстаться с такой женщиной. Однако вскоре он успокоился, потому что понял: при всех ее потрясающих достоинствах Марта Яновна со своей склонностью всеми руководить и всех поучать способна проклевать печень даже самому индифферентному и уравновешенному человеку. На первых минутах знакомства с ней (и Женька в полной мере это ощутил) бунтовала плоть, а уже через полчаса, от силы час начинали бунтовать разум и чувство собственного достоинства. При этом она была прямо-таки дьявольски умна, так что просто отмахнуться от ее поучений и руководящих указаний, сказавши: «А, да что с нее, дуры, возьмешь!» – никак не получалось. И было жутко представить, чего стоили Андрею Юрьевичу годы супружества, проведенные в состоянии непрерывного, заведомо обреченного на поражение бунта.
Ознакомительная версия.