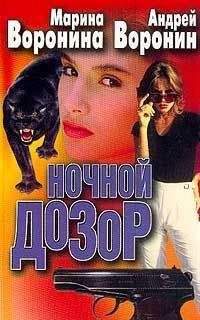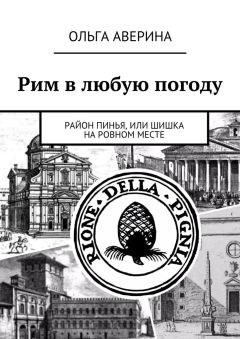Ознакомительная версия.
Катя боялась выйти на улицу. Она села на низко расположенную батарею парового отопления и стала ждать.
Жесткие ребра радиатора заставляли ерзать, время, казалось, тянется раза в два медленнее и безысходнее, чем обычно.
Приемщица вновь заняла позицию за прилавком и, читая книжку в блестящей глянцевой обложке с тиснеными золотом буквами, то и дело поглядывала на посетительницу.
«Наверное, думает, что я сумасшедшая. И, честно говоря, она права, потому что только сумасшедшая будет вот так сидеть и ждать, когда проявится ее пленка».
— Много еще осталось? — пытаясь придать своему голосу беспечность, поинтересовалась Катя.
Приемщица лениво глянула через плечо в приоткрытую дверь:
— Думаю, еще минут двадцать. Не волнуйтесь, ничего плохого с вашими пленками не случится. За все время существования нашего пункта пленку засветили лишь однажды.
«С моим везением, — подумала Ершова, — засветят и эти две».
— Нет, нет, я совсем не беспокоюсь. Если всего одну пленку за все время… — в голосе ее совсем не чувствовалось убежденности.
Как показалось Кате, прошла целая вечность и еще столько же. В двери, наконец, появился оператор проявочной машины, в руках он нес такой привычный, такой будничный пакетик со слюдяным окошечком, за которым виднелись две скрученные в рулоны пленки «Кодак».
— Вот ваш заказ.
Катя пристально посмотрела в глаза мужчины, пытаясь догадаться, рассматривал ли он пленки. Проявщик выглядел как любой мужчина, смотрящий на привлекательную женщину — слегка улыбался, слегка смущался и готов был познакомиться тотчас же. Катя пресекла это желание в самом зародыше, зная наперед, что услугами этого пункта ей никогда больше не придется пользоваться.
— Спешу, — сказала она, выхватывая пакет из рук растерявшегося мужчины, и выбежала на улицу.
Она устроилась на покалеченной лавке в небольшом скверике и развернула первый рулончик. Это для непосвященных на негативе, в маленьком прямоугольнике кадра, малопонятная картинка. Профессионал смотрит на красное, видит зеленое, на синее — желтое. Несмотря на то, что Катя даже не выставляла диафрагму и выдержку, почти все кадры ей удались. Спасло то, что она за каких-нибудь полчаса до убийства Малютина сняла толстяка. Лишь на четырех кадрах отсутствовала резкость. Вторую пленку Ершова просматривала не так тщательно, лишь промотала в пальцах, чтобы убедиться — и тут она не спасовала.
«Питер — все-таки милый город, — подумала Ершова. — В нем мне везет. Пусть не в любви, так в делах, в жизни у меня всего пополам. Неужели везение здесь — это компенсация за мои неудачи в Чечне? Хорошо хоть, аванс англичанам возвращать не придется, в договоре была оговорка относительно форс-мажорных обстоятельств. — Катя быстро взглянула на часы. — Четыре часа, самое время для деловых встреч и переговоров».
В каждой профессии существует свое время пика активности. На производстве директора завода лучше всего ловить с утра, перед планеркой или сразу после нее, актера лучше всего караулить после спектакля, а сотрудников журналов раньше двух часов дня на службе не сыщешь.
А уже после пяти они или ушли домой, или пьют в редакции. Редакция журнала — это свой мир со своими законами, со своими порядками и собственной моралью.
То, что позволено делать на улице, совсем не обязательно будет разрешено в редакции, и наоборот. Хотя граница между двумя мирами — миром реальной жизни и журнальным — довольно условна.
«Главное, успеть до пяти, прежде чем начнут нить», — подумала Катя.
Заскочила в магазинчик, купила бутылку джина и бутылку тоника. С пустыми руками в редакцию лучше не приходить. Можно прийти либо с материалами, либо с фотографиями, либо с бутылкой. Тебе одинаково будут рады.
Уже через полчаса Катя Ершова стояла на узком бетонном крыльце во дворе старого дома, перед железной дверью, в которой, как во лбу у циклопа, блестел единственный выпуклый глаз-объектив. Название журнала убивало своей простотой: «Женщина и жизнь». Вывеска чем-то напоминала надмогильную плиту — та же эстетика: белый мрамор, на нем бронзовые буквы. Не хватало только дат рождения и смерти.
Окна, принадлежащие редакции журнала, вычислить было нетрудно — на всех одинаковые, безвкусные, но надежные решетки, под которыми серели давно не мытые стекла. Все шторы плотно задернуты, словно здесь не редакция, а генеральный штаб Министерства обороны, а люди, обитающие за пыльными стеклами, опасаются, чтобы вражеские шпионы ненароком не увидели секретных карт.
Дверь, как водится, оказалась закрытой.
«Ох, уж эти мне автоматические замки! Их производство надо запретить, как производство противопехотных мин».
Катя нажала на микроскопическую красную кнопку звонка, услышала мелодичные звуки. Когда отняла палец, то была Неприятно поражена: кнопка звонка была выполнена в виде миниатюрной женской груди. Розовая пластиковая полусфера, а на ней красная капелька-сосок. «Хорошо еще, что они называются „Женщина и жизнь“, а не „Мужчина и жизнь“. Представляю, в виде чего был бы у них дверной молоточек!»
Чем больше людей за дверью, тем меньше шансов, что кто-то подойдет. Пришлось звонить трижды, пока, наконец, замок не щелкнул и дверь не открылась.
Парня, вышедшего ей навстречу, абсолютно не интересовало, кто пришел и зачем. Так уж в редакции повелось, дверь открывал самый слабонервный — тот, у кого не хватало духа сидеть за столом в то время, когда звонок разрывается.
Катя прикрыла за собой тяжелую, как гробовая доска, дверь, вздрогнула, когда защелкнулся язычок замка. Парень растворился в редакционном полумраке, его шаги затихли в многочисленных поворотах коридора.
Последний раз в помещении редакции журнала «Женщина и жизнь» Катя Ершова была года четыре тому назад, ее приводила сюда Лилька. Вспомнить расположение кабинетов она так и не смогла, но каждый журналист обладает почти собачьим нюхом, умеет имитировать осведомленность в самых безнадежных ситуациях.
«Как же зовут фотографа? — Катя не то, что фамилию, даже имя вспомнить не могла. Да и внешний вид его восстанавливался с трудом. Помнила лишь, что тот высокий, с редкими длинными волосами на лысеющей голове. — За четыре года он вполне мог облысеть или уволиться».
В коридоре пахло свежесваренным кофе, разлитым спиртным и хлоркой. Запах хлорки исходил из приоткрытой двери туалета. Немного постояв, подождав, когда глаза привыкнут к полумраку. Катя двинулась по коридору, чем-то напоминавшему ей средневековую улицу в европейском городе. За стенами домов идет жизнь, а сама улица пустая и мрачная. Тут сыро, на стенах плесень, сюда никогда не заглядывает солнце.
На некоторых дверях виднелись таблички, сохранившиеся с разных времен. За очередным поворотом коридор расширялся, образуя нечто вроде небольшого холла. Тут стояло три кресла-бегемота, старорежимный журнальный столик с двумя пепельницами — одной хрустальной, край которой был отколот, и другой чугунной. Один ее вид заставил Ершову вздрогнуть. Эстетика пепельницы была выдержана в похоронном духе, она чем-то напоминала кладбищенский венок, такой, каким его изображают на памятниках.
Эти ассоциации подкрепляло и то, что пепельницу покрывал густой слой жароупорного битумного лака — любимого народом покрытия для кладбищенских оград.
На трех креслах разместились две девчонки. Они курили длинные черные сигареты. А поскольку двоим в трех креслах сидеть одновременно невозможно, то они, заняв два, третье использовали как подставку для ног.
«Лет по двадцать дурехам», — определила Катя.
Себя по сравнению с ними она чувствовала умудренной опытом женщиной.
— Простите, — сказала одна из девиц, наверное, подумав, что Катя хочет присесть, и убрала ноги с кресла.
Подруга последовала ее примеру.
— У меня туфли чистые, — перехватив осуждающий взгляд Кати, сказала девушка, — я в них только по редакции хожу.
Ершовой хотелось сказать какую-нибудь гадость, типа:
«В этих туфлях вы и в редакционный туалет ходите, а я, даже не заглядывая туда, могу сказать, чистотой он не блещет». Но сдержалась, ведь пришла-то она сюда не для того, чтобы оскорблять безразличных ей людей, а для того, чтобы воспользоваться редакционной лабораторией.
Поскольку ответа на своеобразное приглашение сесть не последовало, девушка, первой убравшая ноги, призадумалась. Она пыталась изображать из себя бывалую журналистку, а в душе боялась случайно, по незнанию нарушить какой-нибудь неписаный журналистский закон.
— Вы, наверное, к Косте?
Ершова неопределенно повернула голову, этот жест можно было расценить как угодно — то ли согласие, то ли удивление, то ли вообще, человеку захотелось осмотреться.
Ершовой помогло то, что она, будучи бывалой журналисткой, именно так и выглядела — человек, которого невозможно сбить столку, невозможно вогнать в краску, который не сделает ни одного лишнего движения, если ему за это не заплатят или не посулят славу.
Ознакомительная версия.