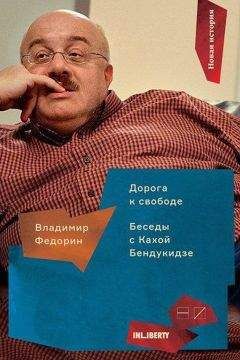Да вот я сейчас сниму, а вы понюхайте — даже не пахнет ничем…
Поюровский не дослушал этот бред, сморщился, как печеное яблоко, и опрокинул очередного стопаря. В ту же секунду тряхнул башкой, будто получил удар по затылку, очечки соскочили с одного уха, глаза остекленели — и бухнулся лбом в столешницу. Лиза еле успела смести рукой тарелки, чтобы не поранился ненароком.
Первое, что она сделала, — опорожнила под раковиной и помыла заправленную препаратом бутылку.
Проверила, надежно ли угнездился за столом Поюровский — ничего, продержится. Потом занялась сейфом, замурованным в стене и прикрытым изумительной репродукцией "Купальщиц".
Сейф она обнаружила еще в первое посещение, пока хозяин мотался зачем-то на кухню. У Поюровского была такая особенность: в минуты умственного возбуждения ему обязательно требовалось проявить физическую активность. В тот раз Лиза пожаловалась, что ее с непривычки угнетает огромное количество раскуроченных трупаков, которые приходится обихаживать в морге. В ответ Поюровский, воспламенясь, приоткрыл ей философский смысл торговли человеческим сырцом.
Оказалось, что, в принципе, это нечто большее, чем бизнес. Потому что таким образом россияне (он произносил это слово в подражание президенту как "руссияне"), проклятый народ, получают реальную возможность внести вклад в мировую цивилизацию. Прежде чем бесследно и окончательно сгинуть, они передадут пригодный для биологических манипуляций материал в общечеловеческий фонд, и на этом, по всей видимости, их земное предназначение будет исчерпано. Но это не так уж и мало. "Представь себе, детка, — впадая в поэтический восторг, вещал Поюровский, — берем какого-нибудь ничтожного руссиянина, раба, полуживотное, или его дефективного детеныша, изымаем внутренние органы, сцеживаем кровь, и тем самым спасаем жизнь западному бизнесмену, художнику, дипломату, просто человеку, в конце концов, — разве это не гуманный, одухотворенный, истинно творческий акт?" Лиза усомнилась в том ключе, что, если исходный материал столь ущербен, не передастся ли зараза от донора к пациенту? Поюровский похвалил ее за смекалку. "Пока руссиянин поголовно не деградировал, можно его использовать, но, естественно, тщательно производя сортировку. Времени история оставила немного, полагаю, не больше десяти-пятнадцати лет".
После этого он подхватился и убежал куда-то, скорее всего отлить, а Лиза воспользовалась его отсутствием, чтобы обследовать помещение.
…С сейфом ей повезло: цифровой замок был устаревшей модификации; с помощью электронного фонендоскопа — изящная вещица с питанием от обычных батареек — она справилась с ним за пять минут. Внутри сейф делился на два небольших отсека, в верхнем деньги (валюта и несколько банковских упаковок стотысячных купюр), в нижнем — бумаги, документы. Из вместительного кармана телогрейки она достала фотоаппарат, выполненный в виде платиновой зажигалки «Ронсон», отнесла бумаги на стол, сдвинула в сторону поникшую голову гуманиста-патологоанатома и отщелкала четыре кассеты. Содержание документов ее не интересовало — счета, копии контрактов, частная переписка, какие-то чертежи, — это ее не касается, да и времени не было рассмотреть. Она делала только то, зачем ее послали.
Еле успела управиться: разложить бумаги по возможности в прежнем порядке, запереть сейф, задвинуть «Купальщиц», подвесить опознавательную ленточку, уничтожить следы на столе, бросить ватник на прежнее место, сесть в кресло — и с облегчением закурить. Угадала тютелька в тютельку: Поюровский зашевелился, закряхтел — и поднял чумную башку от стола. Лиза была наготове, с жалобным криком подскочила.
— Что со мной случилось? — подозрительно спросил Василий Оскарович.
— Ой, как же вы меня напугали!
Поюровский сел прямее, ухватил ладонями лицо, с силой сдавил. Взгляд прояснился.
— Я что — сознание потерял?
— Рюмочку выпили и прямо так — бух! Я…
— Давно это было?
— Минута или две прошло, не больше.
Поюровский взял в руку бутылку, из которой пил (Лиза долила туда вина), понюхал, недоверчиво взглянул на девушку:
— Из этой?
— Из этой, ох, будь она неладна!
Наполнил бокал, распорядился:
— Ну-ка выпей, может, и у тебя будет — бух, а?
Лиза выпила, кокетливо помахала у губ ладошкой:
— Крепкая, а сладенькая. Хорошее вино.
— Никак не пойму, с чего это я? Будто током тряхнуло.
— Не волнуйтесь, это бывает. У меня тоже бывало, честное слово, если без закуски целый день. Батюшка вообще иначе не засыпает, как на столе. И ничего. В полном ажуре. Оклемается — и по новой. Говорит, главное, не делать перерывов, это действительно опасно. Он как-то неделю пропустил, не пил — и пожалуйста, сердечный приступ. Застой в сосудах.
— Можешь помолчать минутку? — обреченно спросил Поюровский. Странный провал памяти. Что это: микроинсульт? опухоль? шизофрения? Очень не вовремя, очень.
Он не хотел умирать, не дожив до шестидесяти. С тех пор, как занялся бизнесом, молодел с каждым днем. Сейчас никто не давал ему больше сорока, а что будет дальше? Медицине известны случаи, когда на каком-то возрастном витке в человеческом организме происходили таинственные мутации, биологические метаморфозы, и он поворачивал вспять, к своему началу. Да, собственно, что тут таинственного, разве сама природа не дает ежегодные примеры чудесных обновлений. Такое возвращение в молодость произошло с Гете и, кажется, с кем-то из Людовиков. В преклонном возрасте они оба погибли от случайных причин, но никак не от старости. Поюровский почти не сомневался, что тоже сумел неким невероятным, гениальным, метафизическим усилием переломить роковое течение судьбы — и вот на тебе, непонятный обморок. Но, возможно, права шальная девица, это всего лишь следствие переутомления, — ничего не значащий эпизод, соматическая трещина.
— Так что, — надула губки Лиза, — идти мыться — или как?
— Или как… Лучше перенесем на завтра. Что-то мне неможется.
— Как угодно, Василий Оскарович, — Лиза изобразила разочарование. — Но я подумала, может, полезно немного подвигаться. Я ведь осторожненько, без нагрузки. Мне один японец говорил: любовь выводит все шлаки. Старенький был, еле живой, сто лет в обед, а после этого прямо воскресал. И батюшка мой…
— Хватит! — взмолился Поюровский. — Ты меня утомила. Надо же такой язык иметь, как помело… Убирайся! Сказал завтра, значит, завтра.
Лиза, озадаченно бормоча:
— Как же можно, даже не попробовать?! — подхватила с пола телогрейку, зашустрила к дверям, сокрушенно качая головой. Обернулась, печально спросила:
— Но завтра точно? Можно надеяться?
Грациозно изогнулась, Поюровский на секунду пожалел, что отпускает красотку.
— Завтра или послезавтра — вызову.
Через ночь, через парк, через мороз без приключений вернулась в морг. Первым, кто ее встретил, был разъяренный Ганя Слепень: весь в мыле, с растопыренными руками, с багровой рожей. Ночная ворожба уже шла полным ходом.
— Ты что же вытворяешь, падалица?! Мы с Гришей должны пуп надрывать, пока ты трахаешься?
— Фу, Ганечка, как грубо! Ты же интеллигентный парень! Откуда такие слова?
— Где была, отвечай, — рявкнул Слепень, подпустив замысловатую матерную струю.
— Соскучился, — догадалась Лиза. — Вижу, соскучился. Сейчас я быстренько, только в туалетик заскочу…
Ночная работа черная, неблагодарная, зато оплачивалась значительно выше дневной. Длилась она, как правило, два, от силы три часа, но выматывала до донышка. По ночам заправлял Ганя Слепень, Лиза и маэстро Печенегов стояли на подхвате. Весь процесс напоминал пересортицу в мясном цехе. Ночью поступали не целиковые трупы, которые следовало приуготовить к захоронению, а сплавлялись отходы из разделочной и операционной в подвале клиники. Отходы спускали в цех по двум металлическим шлюзам, в остальное время забранным металлическими решетками — что-то вроде сливных желобов, установленных наклонно. С улицы «товар» подвозили в крытых фургонах, дюжие парни в прорезиненных комбинезонах скидывали его в желоба вилами. По одному желобу на сменщиков валилась разная мешанина: костяное крошево, комки черно-белых и розовых внутренностей, дышащих сладким дымком, отсеченные конечности; по второму поступали обезображенные тушки, с прикрепленными жестяными бирками. На бирках иногда значились имена владельцев, чаще — какие-то непонятные значки, вроде китайских иероглифов. В задачу ночной смены входило быстро рассортировать все это добро — требуху к требухе, кости к костям и так далее, — упаковать в пластиковые мешки и отправить по назначению: что-то в котельную, что-то на свалку, что-то на мясокомбинат. Работать приходилось в плотных марлевых повязках, в резиновых рукавицах до локтей, но это не избавляло от угара, ядовитого запаха и слуховых галлюцинаций. В первую смену буквально через несколько минут у Лизы так разболелась голова, что казалось, из ушей потекли мозги. Она как бы перестала сознавать, чем занята и что происходит.