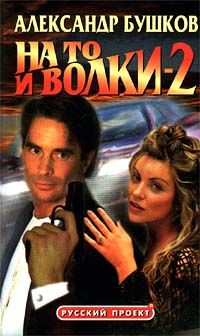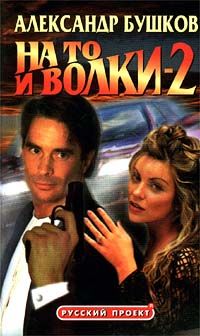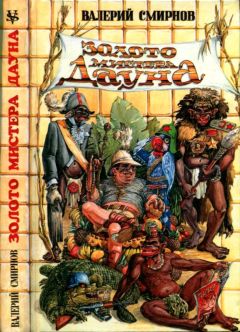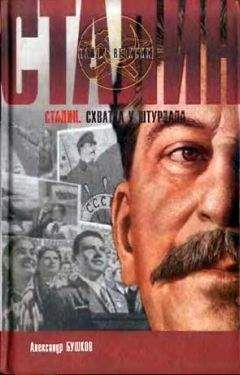— Но ведь не может так оказаться, что против нас — Сам?
— Сам о нас в жизни не слышал, — сказал Лалетин. — Только от этого не легче. Наоборот. Жалует царь, да не жалует псарь…
— Может, он зарабатывает очки перед выборами? — предположил Данил вслух. — Он же прет в Думу со страшной силой…
— В любом случае ясно одно: вонь идет из столицы. Правда, нет пока что высочайшего указания на наш счет… но если будет? Если всю эту бодягу, соответствующим образом украшенную кучерявыми завитушками и страшными картинками, подкинут на самый главный стол? У нас ведь самое скверное — оказаться выбранным для примера «отрицательным героем», мальчиком для битья. Будь ты хоть столичный банкир. Налетят мордовороты в пятнистом — и придется улетать для поправки нервов куда-нибудь в Лондон. И хорошо еще, если в Лондон. А половецкие пляски на Дальнем Востоке? Власть периодически обязана метать громы и молнии, а уж перед грядущими выборами…
— Вот и я говорю, — сказал Данил. — Переросла проблемка мои возможности, господин барон, пора вам самому борзого коня седлать…
— Готовь «трассу», — кивнул друг детства.
…«Трассу» в свое время проложили еще чекисты. Из подвала метров на четыреста тянулся бетонированный ход, где свободно мог проехать грузовик, и кончался в самом обыкновенном гараже, ничем не отличавшемся от двух десятков своих собратьев (понятно, счастливчики, которым удалось влепить свой гаражный кооператив в самом центре города, приписывали сей успех исключительно собственной оборотистости, ни о чем таком не подозревая…).
Ниссановский микроавтобус остановился у невзрачного здания бывшей бани, облезлого и обшарпанного — правда, резким контрастом выглядели полдюжины импортных тачек, приткнувшихся во дворике. А небольшая вывеска, загадочно гласившая «ТОО „Снодер“», никакой ясности не прибавляла, мало того, название было подобрано так, что в памяти не задерживалось и ни с чем определенным не ассоциировалось. Фирм и фирмочек ныне — как блох на барбоске, поди догадайся…
Внутри начинались чертоги — та же баня, только декорированная дорогим деревом, экзотическим кафелем и мебелишкой, непривычной даже для капризного зарубежного народа, избалованного буржуазной демократией. Порой навстречу попадались завернутые в простыни девочки с ангельски невинными личиками, охранников было что-то необычно много для рабочих будней, а в одной из комнат, мимо которой крепыш в сером костюме провел Лалетина, гомонили вокруг уставленного пивными банками стола с полдюжины крепких мальчиков — гомонили определенно на одном из диалектов дальнего зарубежья.
Он ждал минут пять, не притронувшись ни к бутылке «Хеннесси», ни к закускам с подноса, которым его моментально почествовали. Во рту стоял противный привкус промокательной бумаги, и ничего не хотелось. Конечно, больше всего ситуация напоминает феодализм. Вот только прежним баронам было не в пример легче защищаться от капризов полудекоративного короля — самым житейским делом считалось, если барон запирался у себя в замке и поливал немногочисленных королевских латников кипящей смолой со стен. При удаче бароны даже брали короля за манишку и нахально диктовали условия. Английская Великая хартия вольностей, сводящая с ума нашу образованщину как символ древней западной демократии, на деле была манифестом исключительно баронской вольности, подписанным загнанным в угол монархом…
Вошел Фрол — коренастый, лобастый, лысиной и в самом деле слегка напоминавший Ульяныча, в белой тройке и алой рубашке, расстегнутой чуть ли не до пупа и выставлявшей на обозрение золотую цепь в палец толщиной (наряд не каждодневный и означавший практически то же, что фрак для дипломатов в дни больших приемов).
— Саммит? — усмехнулся Лалетин.
— Делегация испанских трудящихся, — Фрол усмехнулся в ответ. — Там есть кое-что интересное и для тебя, пусть потом приедет Нугзар, поговорим… Эти забугорные — народ первобытный, честное слово. Непременно следует по этикету увешаться побрякушками и повесить на стену в холле хоть один «узик». Иначе нет того имиджа. Думаешь, эти черномазые, что толкают наркоту на Бродвее, катаются в розовых кадиллаках из-за дикарской любви к ярким краскам? Тоже имидж, полагается нанизать на пальцы десяток гаек и возить по три блондинки на заднем сиденье, иначе уважать не будут. Дети… Что у тебя стряслось?
Он слушал внимательно, изредка перебивая короткими вопросами. Пару раз в дверь заглядывали кожаные и галстучные мальчики, но тут же исчезали, отосланные небрежным жестом.
— Называется — жили-жили, не тужили… — сказал Фрол задумчиво. — Ты знаешь, про булдыгинский клад и в самом деле уже начали кружить какие-то побасенки. Только это сказочки для детей младшего рэкетирского возраста, которые даже «Бульварный листок» не читают… А вот насчет Беса твой Данил прав на все сто. Хоть он и наглец, не стал бы лезть на рожон, не появись возле него крутой дяденька-провокатор… Мои тоже доносили о каком-то «джентльмене», но концов не нашли… у тебя на «заимке» все спокойно?
— Вроде все.
— На «заимку» пока никто не облизывался. У Соколика наглости не хватит, хоть он и дурак, алюминиевые контракты и прочие фабрично-заводские будни опасений не внушают, иначе ты бы знал, а из столичных «крестных батьков» никто не пытался влезть в наши угодья, иначе я бы знал… В самом деле, тупик получается? А, Кузьмич?
— Может, следовало бы Беса…
— Ну не могу я пока его выпотрошить… — досадливо поморщился Фрол. — У меня руки чешутся, но пока жив Батенька или пока Бес не заигрался до полного беспредела, нельзя устраивать гладиаторские бои. Батенька у нас — пережиток из раньшего времени, динозавр, но нельзя идти поперек старика, общественность не поймет, он как-никак живой пример, на нем молодежь воспитывают, когда учат жить по понятию… Ох мне этот старый закал… Он же в шестьдесят восемь, обормот, своим хотением на зону отправился, позарез необходимо было, видите ли, рассудить уральские скандальчики. И Бес у него под крылышком. Только плох Батенька, вести доходят, хоть и лежит в санчасти с цветным телевизором и спелыми киви, а медсестренки из вольных минетами ублажают…
— Что же нам, сидеть и ждать, когда Батенька помрет?
— Ждать, конечно, нельзя… — задумчиво сказал Фрол. — Иллюзий, Кузьмич, строить не будем. Не нравятся мне эти игры. Это дурики вроде Щекоталова с его трясущимися перед объективом ручонками свято полагают, будто Система столь же организована и упорядочена, как обкомы и ЦК в былые годы. И неведомо придурку, что бардак присутствует во всех сферах… И если рука Москвы уцапает кого из нас за шиворот и решит вздрючить для примера, обязательно вздрючат… Не хочется мне что-то на старости лет пенсионерствовать на Багамах. Я хочу доживать здесь. И хочу, чтобы здесь был порядок, чтобы беспредельщики не обливали малину дерьмом на каждом шагу. Хватит, десять лет страну трясет в падучей… Если эти придурки доведут до взрыва, «бультерьерами» не отгородишься. Остаются опять же Багамы, а я не хочу… Хорошо, — он похлопал себя ладонью по колену, что-то решив. — Стая жрет слабых, но не отдает сильных. Как выражается Датико, брат для брата в черный день… Знаешь, за что я тебя уважаю, Кузьмич? За то, что не купил коронацию за деньги, когда предлагали такую возможность.
— Не мой имидж, — усмехнулся Лалетин.
— А иные дурачки купили. И зовутся теперь ворами в законе, взбздыкнутые… Во всем должен быть порядок. И пока ты этот порядок уважаешь, ни одна сволочь не позволит тебя опустить. И не посмеет. Не ради тебя даже, а ради порядка, потому что на нем жизнь держится… Короче. Бери билет и лети в белокаменную. Пойдешь к Карему Бароеву.
— «Интернационал»?
— Он. Ну, открывает человек рабочие заседания своих структур гимном СССР, прихоть у него такая… Почему бы и нет? У каждого свои прибамбасы… Карем в московской мутной водичке плавает, что твоя акула. И стоит повыше нас с тобой на парочку порядков. Если против тебя работает какая-то столичная гнида, «Интернационал» ее вычислит, он это умеет. Не на халявку, разумеется. Что-то он от тебя потребует, ему как раз нужен человек твоего полета, имей в виду. Но насколько я могу судить, от его просьб всегда бывает прибыль. Пора тебе выходить на орбиту повыше, да и мне тоже… Ну, отправил я своего пацана в Кембридж, а ты — свою Элку, но это ж не достижения, а проза жизни… В губернаторы не думаешь подаваться? У нашего обаяшки срок кончается.
— Мне бы сейчас разобраться с этими наездами…
— Одно другому не мешает, — сказал Фрол. — Докушать Беса, разобраться с наездами — это опять-таки проза. А поэзия как раз и заключается в установлении надежного порядка, который бы всех устроил… или большинство, по крайней мере, всех-то довольными не сделаешь, как ты на голове ни прыгай… Решено, Кузьмич. Я «Интернационалу» позвоню прямо сейчас, в тебе-то я уверен — не забудешь старых друзей, как бы ни взлетел… А потом — у меня там полкурса института физкультуры, застоялись ляльки…