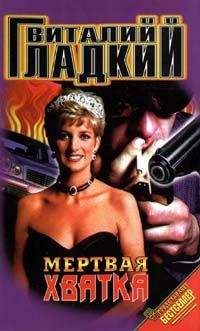Да нет, подумал Сорокин, не то. При чем тут квалификация? Просто ему, Забродову, наверное, очень сложно адаптироваться на гражданке. Он всю жизнь воевал, всю жизнь имел дело с реальным, четко обозначенным противником, и всю жизнь у него были развязаны руки, так что с противниками своими он мог разбираться по собственному усмотрению, без оглядки на уголовный кодекс и общественное мнение.
А представления о мирной жизни, о том, какой она должна, по идее, быть, черпал из своих чертовых книжек, в которых нет ни слова правды. Реальная же жизнь намного грубее и одновременно сложнее, чем ее описывают в книгах, а Забродов давно уже сложился, закостенел – ив достоинствах своих закостенел, и в недостатках, – и меняться ему поздно. Он как старый дуб на ветру: сопротивляться урагану трудно, того и гляди, переломит пополам, а то и вырвет с корнем, а гнуться, стелиться по ветру тоже не получается – конструкция не позволяет…
"Давай-ка честно, – мысленно сказал себе полковник, перекладывая увесистый пакет с продуктами из правой руки в левую. – Ведь, если разобраться, получается странная штука. Забродова можно жалеть, можно злиться на него, раздражаться по его поводу и насмешливо обзывать его книжным червем. Можно, да, но исключительно за глаза.
А стоит только столкнуться с ним лицом к лицу, как неизменно оказывается, что он кругом прав, а ты и все, кто вместе с тобой над ним потешался, наоборот, кругом не правы.
И не жалость к нему начинаешь испытывать, а зависть, и если о чем-то жалеешь, глядя на Забродова, так это о том, что не повезло тебе стать таким, как он.
Да и везение тут, пожалуй, ни при чем. Не везение тут нужно, а мужество, чтобы выйти из стройных рядов, из чеканящей шаг, с детства родной, привычной колонны, отойти в сторонку, глянуть и сказать, качая головой: «Елки-палки, ну и стадо'» А потом повернуться к стаду спиной и спокойненько пойти своей дорогой.. Конечно, в стаде уютно и безопасно и думать ни о чем не надо, и на такого вот ренегата-одиночку стадо смотрит с жалостью и удивлением: идиот, самоубийца, волчья сыть… Тупое, покорное, полуголодное стадо…
Но ведь, с другой стороны, если каждый станет вести себя как Забродов, это же будет полнейшая анархия! Ведь коров для того и держат в стаде, чтобы они не разбредались куда глаза глядят, не попадали в зубы волкам и не жрали посевы.."
Сорокин почувствовал, что снова запутался в своих рассуждениях, и немедленно разозлился на Забродова. Ну что за человек! У самого всю жизнь шило в заднем проходе, так он еще и другим житья не дает..
Он повернул за угол и с большой опаской посмотрел в сторону тещиной дачи. Забор был на месте и выглядел, как показалось полковнику, лучше прежнего. Он пригляделся: да, действительно лучше. Ровнее как-то, аккуратнее, даже сетка не ржавая, как раньше, а зеленая, цвета хаки, как ставни на окнах. Краска вроде бы в сарае стояла, литра три ее там было, что ли… Сорокин ею как раз забор и собирался покрасить, да все как-то не получалось – то одно мешало, то другое. Ну, теперь хотя бы эта забота с его плеч свалилась. И на том спасибо. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок…
Да, забор получился – загляденье. Да и то сказать – армейская выучка! Сорокин вдруг представил себе, как э10 было: трое мрачных с перепоя качков, угрюмо переругиваясь, ремонтируют и красят тещин забор, а вдоль забора, заложив руки за спину, прохаживается бывший капитан Советской Армии Забродов и развлекает их разнообразными сентенциями, которых навалом в запасе у любого прапорщика: «Здесь вам, товарищи, не тут, так что красим вот от этого столба и до вечера…»
Полковник поймал себя на том, что ухмыляется, смакуя подробности этой воображаемой картинки, и сделал серьезное лицо. Если каждый…
Впрочем, если бы каждый обыватель мог постоять за себя так же, как Забродов, преступники и хулиганы давно уже вымерли бы, как динозавры. С голодухи, блин…
Во дворе играла музыка – старый добрый рок-н-ролл.
Потом музыка прекратилась, и Сорокин услышал знакомые с детства позывные «Маяка». Толкнув калитку, он вошел на участок и почти сразу увидел висевший на ветке груши транзисторный приемник. Приемник был старый, выпущенный отечественной промышленностью чуть ли не в конце шестидесятых, в пожелтевшем от времени двухцветном пластмассовом корпусе со скругленными углами, с архаичными клавишами и ручками и с круглой шкалой настройки.
Антикварная эта вещица валялась на чердаке тещиной дачи в ящике с разнообразным хламом столько, сколько Сорокин себя помнил, и, насколько ему было известно, никогда не работала – во всяком случае, на его памяти. Короче говоря, слышать доносящийся из этой заведомо мертвой коробки жизнерадостный голос ведущей «Маяка» было странно – так же странно, наверное, как столкнуться на Красной площади с мумией, которой наскучило лежать в стеклянном гробу в мавзолее.
Полковник огляделся, ожидая увидеть сплошь заросший сорняками огород или, наоборот, голую, без единой травинки, землю. Ни того, ни другого он не увидел. Грядки с аккуратно, под одинаковым углом скошенными краями напоминали эталонные образцы фортификационного искусства, а из них ровными, будто проведенными по линейке рядами торчали необыкновенно дружные всходы, похожие на выстроенные для прохождения торжественным маршем войска. Сорокин поймал себя на том, что в голову ему поневоле лезет какая-то армейская терминология, но как быть, если тещин огород и впрямь выглядел не хуже парадного плаца в образцовой войсковой части! Это было загадочно, потому что растения, в отличие от людей, устным приказам не подчиняются и плевать хотели на дисциплину.
«Черт подери, – подумал Сорокин. – Он что же, и в этом разбирается? Приемник починил – это ладно, это я понять могу, хотя и с некоторым трудом. Но ведь и огород вылизан так, как даже теще не снилось! А я-то был уверен, что Забродов петрушку от крапивы не отличит-Выходит, он не врал, когда говорил теще, что знает толк в земледелии. Интересно, откуда? Из книжек своих, что ли? Ох, сомневаюсь…»
Он поставил пакет на ступеньки веранды, закурил и еще раз огляделся по сторонам. Оказалось, что изменения коснулись не только огорода – саду тоже досталось. Огромная и неопрятная куча спиленных по осени с плодовых деревьев сучьев, до которой у Сорокина никак не доходили руки, куда-то исчезла, зато у стены сарая появилась аккуратная стопка тонких, одинаковых по длине круглых полешек и прутьев. Свежевыбеленные стволы деревьев буквально резали глаз, а подгнившие и покосившиеся деревянные рамки, в которые были заключены кусты смородины и крыжовника, сменились новыми – прочными, аккуратными, выкрашенными все той же краской защитного цвета. Вымощенная красным кирпичом дорожка была старательно расчищена, подметена и даже, как показалось Сорокину, промыта водой, так что ему захотелось разуться и пройти по ней в носках, как по ковру. Словом, тещин участок, и прежде служивший многим соседям образцом для подражания, теперь сверкал, как бриллиант, только что вышедший из рук опытного огранщика. На минуту Сорокин даже засомневался: полно, да туда ли он попал?
Тут из-за угла дома вышел какой-то человек. Сорокин растерялся: ему вдруг показалось, что он действительно каким-то чудом ухитрился заблудиться и забрался на чужой участок. Стоявший перед ним с лопатой в руках мужчина был ему решительно незнаком. На его верхней губе и подбородке густо серебрилась седоватая щетина, которой оставалось всего ничего, чтобы превратиться в бороду и усы, на голове криво сидела испачканная землей соломенная шляпа с широкими, разлохмаченными по краям полями.
Абориген был раздет до пояса, и кожа его уже успела приобрести красно-коричневый оттенок пережженного кирпича. Ниже пояса имели место старые, безобразно растянутые трикотажные спортивные шаровары и отчаянно просившие каши кроссовки. Слова извинения уже готовы были сорваться с губ полковника Сорокина, но тут он немного оправился от растерянности и узнал сначала свои собственные штаны и кроссовки, затем соломенную шляпу покойного тестя, в которой тот любил ходить на рыбалку, а потом и хитрые, смеющиеся глаза под обгрызенными мышами полями этой шляпы.
– Тьфу на тебя, – сказал он, пожимая Забродову руку. – Ты прямо хамелеон какой-то, ей-богу. Идеально сливаешься с фоном.
– Ну, разница все-таки есть, – засмеялся Забродов. – Хамелеон меняет окраску независимо от своего желания, а я как-никак могу сознательно управлять этим процессом.
– Мещеряков тебя не видит, – сказал Сорокин. – Он бы тебя зажигалкой побрил, наверное.
– Да, небритых в армии не любят, – согласился Илларион. – Но мы же не в армии, правда? Помнишь Козьму Пруткова? Не все стриги, что растет. Ты пожрать привез? А то у меня тут все кончилось еще на прошлой неделе. В деревню три раза ездил, но там магазин почему-то все время закрыт.
Если бы не добрые люди, совсем пропал бы.