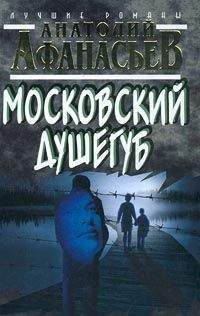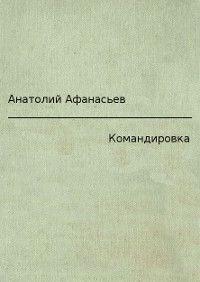Замкнувшийся в себе, Лахуда лишь хмуро кивнул. Его разбуженному воображению рисовались живописные картинки расправы над этой парочкой, замахнувшейся на самое святое — на частную собственность. Надо только точно выбрать момент.
— А на вокзале что? — спросил он.
— Зависит, Боря, от твоего поведения. Убить тебя я мог и здесь, причем с превеликим удовольствием.
Лахуда не удержался еще от одного вопроса.
— Сам на себя работаешь или как?
— Я не сумасшедший, — ухмыльнулся Санин.
Из казино выбрались благополучно. Полковник шел рядом с Лахудой, Дарья Тимофеевна держалась чуть сзади. К ней вернулись аристократическая осанка и полусонный вид. Пистолет, который она пронесла в подколенной кобуре, опустила в сумочку и прижимала ее к боку, словно боясь уронить. Лахуда нес саквояж с миллионом, а полковник — сумку с остальным добром. За ними потянулись двое горилл-телохранителей, но хозяин, как научил Санин, дал им отмашку:
— Оставайтесь, ребята, вы мне пока не нужны.
Без приключений спустились вниз, но в вестибюле к ним подкатился юркий человечек в толстом шерстяном свитере и в неприлично узеньких брючках, с пронырливой, как у лисенка, мордочкой.
— Боб, ты куда? У нас же рандеву… или забыл?
— Я ненадолго, Зиновий. Вот только провожу…
Человечек задержался цепким взглядом на Дарье Тимофеевне, брезгливо скривившей губы. Что-то его, видно, насторожило.
— Господа, кажется, приезжие? Из столицы-матушки?
— Оттуда, браток, оттуда, — благодушно прогудел Санин. — И вашего босса скоро переманим. Не тот у него размах, чтобы в вашем болоте гнить.
— Боб, что я слышу? Это правда?
Казалось, выигрышная минута, чтобы подать сигнал, но Борис Семенович ею не воспользовался. Он верно оценивал диспозицию. Эти двое, особенно стерва с пушкой, мешкать не станут. В сложившейся ситуации требовалась потоньше игра.
— Потом, потом, Зиновий. Передай Гарику, я на вокзал и обратно. Пусть последит за порядком.
Человечек открыл рот и тут же его захлопнул с характерным щелчком зубных протезов. Отступил, не сводя алчного взгляда с Дарьи Тимофеевны.
— Мадам, надеюсь, вам у нас понравилось?
Дарья Тимофеевна вскинула брови, словно увидела заговорившую зверушку.
На улице из-за деревьев выступили трое янычар в кожанах, но, не получив знака, близко не подошли. Санин любезно распахнул перед Лахудой дверцу неприметной «тойоты».
— Прошу, милейший.
Сам втиснулся следом, Дарья Тимофеевна уселась за баранку. Включила движок, но с места не трогалась. Санин сказал:
— Напрасно ты это сделал, Боря.
— Что такое? Что я сделал?
— Про вокзал вякнул. Не надо считать других дурнее себя. На этом ваш брат всегда спотыкается.
— Но я…
— Теперь так, Боря. Если за нами увяжутся, сдохнешь прямо в машине, сволочь.
— Никто не увяжется, — Борис Семенович с тяжким вздохом откинулся на сиденье. Страха в нем по-прежнему не было, хотя он уже понял, что влип основательно. Злило больше всего, что никак не мог разобраться, откуда надуло заразу. Никаких догадок. По дороге предпринял попытку прояснить положение.
— Вас, похоже, Бельмонтович навел? Но ведь он бешеный, всем известно. Я могу представить гарантии…
— Не надо.
— Что не надо?
— Никаких гарантий не надо, Боря. Есть звери пострашнее Бельмонтовича.
— Это кто же?
— Думай, Боря, думай. Вокруг марафета они стаями бродят.
Вот и весь разговор.
Воркутинский спецпоезд задерживался в Н. ровно на минуту: сбрасывал почту и забирал казенный груз. Пассажиров на ночном перроне, кроме них, не было. Проводница из десятого вагона спустила трап. Борис Семенович, довольный оттого, что кошмар кончается, начал прощаться, ехидно пожелал парочке счастливого пути (у него уже созрел план, как перехватить их на следующей станции), и тут же почувствовал, как в бок уперлось железное дуло. Женский голос, похожий на ветерок, дунул в ухо:
— Пошел в вагон, мразь!
Он не посмел ослушаться.
В тамбуре они остались вдвоем с Саниным (— Покурим, Боря, выспишься еще!), дама, прихватив саквояж и сумку, Ушла с проводницей. Лахуду опять затрясло. У него возникло странное ощущение, что он трясется не в поезде, а очутился в ракете, уносящей его в небеса. Тусклая лампочка еле освещала аскетическое лицо случайного попутчика с застывшей на нем насмешливой гримасой. Он угостил Лахуду сигаретой:
— Извини, американских нету. Но ничего, подыми напоследок «Явой».
— Почему напоследок? У нас же уговор.
Санин поднес огонька.
— Какой уговор, опомнись, Боря! Я же не Бельмон-тович.
Слова, интонация, ухмылка — все, все было настолько абсурдным, что у Лахуды сперло дыхание. Поезд давно набрал полную скорость, когда Санин склонился над наружной дверью и начал ковырять в замке какой-то железкой. Он повернулся к Лахуде спиной, и у того появилась возможность шарахнуть его по затылку. Но эта мысль мелькнула в голове, будто шорох. Воля Бори была парализована, сердце сковал ужас. В смятенной душе возникло робкое желание попросить пощады, предложить откупного, но не хватило времени. Санин обернул к нему смеющееся лицо.
— Парашютиком давно не прыгал?
— Как это — парашютиком?
— Значит, не прыгал… А я в детстве любил сигануть с вышки. Такие, брат, незабываемые ощущения. Ну ничего, сейчас попробуешь.
Открытая дверь зияла черной дырой в вечность.
— Вы с ума сошли! — из последних сил запротестовал Лахуда.
— Не я, Боря, а ты. Целый город замордовал, как только не совестно.
— Не трогайте меня… Я, я…
— Не дрейфь, Боря, руки-ноги поломаешь, зато живой останешься. Насыпь песчаная.
Это было последнее, что он услышал, почти уже на лету. Санин ловко захватил его за шею, раскрутил, дал пинка — и Борис Семенович, жалобно визгнув, выпал в ночь.
Зенкович еще не стал министром, но получил генеральское звание. Перемены в его жизни произошли разительные. У него теперь не оставалось ни одной свободной минуты, и опекунам пришлось резко увеличить количество снадобий и уколов, поддерживавших его силы.
Больше всего Леву Таракана удручало не то, что ему приходилось ежедневно посещать присутственное место и часами просиживать в роскошном кабинете с мебелью из мореного дуба, с сияющей на двери табличкой: «Зенкович Игнат Семенович», — изматывали бесконечные просители, с которыми он не знал, как себя вести. Правда, была в этих посещениях приятная сторона: редко кто являлся без подарка. Чего только не приносили, но большинство, не мудрствуя, вручали Леве конверты с энной суммой (в зависимости от важности дела), естественно в зеленых купюрах, так что нужда в наличности у него отпала. Все подарки в конце рабочего дня Пен-Муму заботливо складывал в кожаный мешок и куда-то уносил, но кое-что перепадало и Леве. К примеру, вскоре у него накопился целый арсенал именного оружия, две вещи пришлись ему особенно по душе: тяжелый черный маузер от Министерства обороны с трогательной гравировкой: «Бесстрашному воину — за мужество и отвагу» и турецкий ятаган с рукоятью из слоновой кости, на котором было написано: «Великому абреку Гене Прыгуну от кавказской братвы». Ятаган приволокли двое суровых пожилых горцев в каракулевых папахах, которым он по просьбе Галочки подмахнул какое-то пустяковое заявление и пришлепнул его правительственной печатью. В бумаге, кажется, шла речь о приватизации реки Псоу.
День изо дня газеты и телевидение раскручивали имидж государственника, простого русского мужика-интеллиген-та, крутого патриота, человека с добрым сердцем, людского заступника, которому осточертела наглая власть криминала. Зенкович ежедневно делал грозные заявления, пугавшие его самого, но Глеб Егоров из «Аэлиты», готовивший тексты и руководивший всей пропагандистской компанией, учил его, что чем резче, дурнее выступления, тем популярнее политик. Главное — категоричность и апломб, в смысл никто не вдумывается. Россиянин доверяет глазам, а не ушам. Перед интервью на радиостанции «Эхо Москвы» он дал Леве заготовку, где было сказано, что бандитов следует расстреливать на месте без суда и следствия, как только они попадутся на глаза, и он лично этим займется, когда получит полномочия. У него, мол, не дрогнет рука, потому что сердце обливается кровью от страданий невинных сограждан, которых замучили преступники. В число бандитов почему-то входили олигархи, взяточники, правозащитники, гомосексуалисты и коммуно-фашисты. Прочитав текст, Лева пришел в некоторое оцепенение и начал возражать в том ключе, что это чушь какая-то и вообще он ни разу в жизни не стрелял, но Егоров, как всегда, его легко убедил. Сказал, что важнее всего, чтобы било по мозгам и по нервам. Народ ненавидит всю эту сволочь первобытной ненавистью, и тот, кто облекает эту ненависть в слова, автоматически становится его любимцем. Конечно, добавил Егоров, сама по себе народная любовь ничего не значит, она пустой звук, если не уметь ею правильно пользоваться. Но это уже вопрос предвыборных технологий, Гене не стоит забивать себе этим голову.