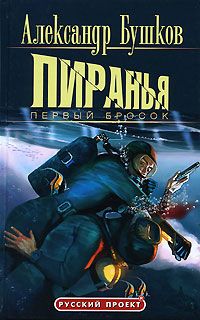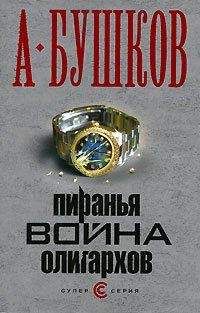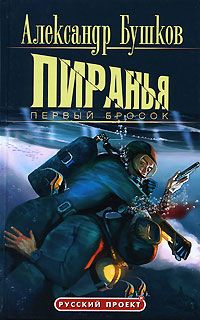– Поди ты, – огрызнулся Мазур.
– Значит, не полезешь, – констатировал Лаврик. – И правильно. Не стоит оно того.
– Но как же…
Он и сам толком не знал, что хотел сказать. Однако Лаврик, очень похоже, его понял.
– Да вот так, – сказал он, подумав. – Ни симпатичная мордашка, ни папа-адмирал еще не гарантируют от того, что в мозгах не заведется блудливость, плавно перетекающая в шестьдесят четвертую статью… Это где-то у Стругацких, кажется? «Она была такой красивой, что не могла не быть умной, доброй…» Вздор. Муть голубая. Ежели судить по физиономии, то нашему Панкратову пора маршальские звезды навесить или вылепить с него статую доброго самаритянина, аллегорическую персону «Доброта и души тепло»… – Он вздохнул, поднялся, тщательно застегнул брякнувшую сумку, похлопал Мазура по плечу. – Ну, я пошел, мне теперь до утра глаз опять не сомкнуть, задушевные беседы пойдут, пока клиентка в нужной кондиции и не оклемалась толком…
Дверь тихо закрылась за ним. Мазур зажал лицо ладонями.
Такого прилива жгучего стыда и бессильной злости с ним еще, пожалуй что, и не случалось вовсе.
«Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный…»
Слишком много для одного человека, право же. Слишком много. Чтобы вот так, со всего размаха – мордой в грязь, в самое поганое дерьмо… Как же теперь жить-то? Неясно совершенно. Но в одном Лаврик прав: никакой петли, мужик обязан держать удар…
Глава пятая
…в чьем сердце пляшет желтый бес
– Завтракал? – спросил Морской Змей, не оборачиваясь.
Плетущийся за ним Мазур мотнул головой:
– Нет.
– Это ты зря. Давай-ка по уставу, прием пищи есть прием пищи… Потом сразу пойдешь и как следует подзаправишься.
– А куда мы?
– Бумажку подмахнуть, – загадочно ответил Морской Змей. – Так, проформы ради… А затем начинается боевое дежурство. Минут через несколько снимаемся с якоря и уходим в точку рандеву. На эсминце груз будет целее, а нам еще тащиться через половину шарика… Ты что фыркаешь?
– Знаешь, мне вдруг пришло в голову… – сказал Мазур, пытаясь прогнать из души эту чертову пустоту. – Мы столько дней тут пластаемся, под водой творится черт знает что, а ни одна живая душа из посторонних понятия ни о чем не имеет. А ведь их чуть ли не полсотни… Смешно?
– Не смешно, а закономерно, – сказал Морской Змей. – Значит, мы хорошие профессионалы… Имей в виду, тут нарисовался еще один непонятный сюрприз. С рассветом пришла моторка. Оператор нашей Мадлен, этот байбак сонный, и еще какой-то сопляк. Привезли ей из Виктории почту, все вроде бы естественно, но потом у них, изволите ли видеть, мотор накрылся. Мы, конечно, благородно полезли помогать, выяснилось – не врут, накрылся, и качественно. Вот только, чтобы добиться такой поломочки, надо хорошо потрудиться напильником… Придется везти их в Баэ, а что поделать? Не за борт же выбрасывать…
– Не нравится мне это, – сказал Мазур.
– А никому не нравится. Дракон велел быть настороже, тебе по раскладу выпадает шлюпочная палуба. С одной стороны, троих лягушатников особенно остерегаться не следует при нашем перевесе, а с другой – поди пойми, что у них на уме и кто им может на подмогу нагрянуть.
– Ну, у нас же полицаи на борту. Эти ребятки, что с Дирком, смотрятся и покруче, чем те двое покойничков, и вооружены лучше.
– То-то и оно… – задумчиво промолвил Морской Змей. – Заходи.
Он распахнул перед Мазуром дверь с табличкой: «Лаборатория № 5. Посторонним вход воспрещен». Мазур послушно вошел в их лазарет, потаенный, в хозяйство Лымаря.
Сам Лымарь, не обернувшись на стук двери, согнувшись, старательно сметал в совок позвякивающие осколки – кажется, обычного стакана. Одно из белых кресел оказалось перевернутым, на глазах у Мазура Лаврик поднял его, аккуратно поставил под иллюминатором. Поморщившись, поднял руку ко рту и пососал длинную кровоточащую царапину на тыльной стороне ладони.
– Йодом помажь, – угрюмо сказал сидевший здесь же Дракон. – Не тяни в пасть…
Лаврик не отреагировал, продолжая сосать царапину. Он был растрепан и как-то незнакомо возбужден, пенсне сидело на носу косо.
– Ага, садись, Кирилл, – сказал Дракон помягче. Придвинулся поближе, хлопнул Мазура по коленке. – Понимаешь, тут такое дело, придется тебе в качестве свидетеля на протоколе расписаться…
Несмотря на весь душевный раздрай, не отпускавший с самого момента пробуждения, Мазур все же холодно отметил, что адмирал пытается выглядеть спокойным и участливым, а на самом деле столь же возбужден, как и Лаврик, как Лымарь с его суетливыми движениями совком и веником…
– Какой протокол? – спросил Мазур настороженно.
– Ну, не допроса, конечно… Заверишь протокол врачебного осмотра покойной. Как полагается. Врач, капитан и два свидетеля. Триколенко уже расписался, а Самарину светиться не стоит… Труп у нас, знаешь ли. Скончалась гражданка Гридасова от острой сердечной недостаточности. Сердце у нее оказалось дохленькое…
Мазур оглянулся на белую ширму, но не смог ничего за ней рассмотреть. Резкий, острый аптечный запах, вовсе не напоминавший сердечные лекарства, еще висел в каюте – и усилился, когда совсем рядом с Мазуром осторожно пронес совок Лымарь.
Подняв голову, Мазур встретил взгляд адмирала – не злой, как следовало бы ожидать, а полный боли. Именно этот взгляд и заставил молчать, хотя у Мазура так и рвалось из груди то ли ругательство, то ли оханье.
– Как же… – только и пробормотал он.
Дракон нагнулся к нему, произнес тихо, доверительно:
– Понимаешь, Валерка Гридасов – золотой мужик. Я с ним воевал, от звонка и до звонка, Отечественную, а потом и с япошками. Он правильный мужик, ясно? Моряк от бога. Ни в чем он не виноват, конечно, но из-за этой поганой мокрохвостки, зуб даю, не только может огрести полные трюмы неприятностей, но и погон лишиться. А это будет неправильно. Категорически неправильно… Только кто ж нас послушает, наверху после этого пидера, Саблина, совсем озверели, в другое время еще можно было рассчитывать на объективное рассмотрение, а теперь… Нас тут пятеро, и четверо собираются молчать, как рыбы… Присоединишься?
– А…
– Получится, – подхватил Дракон на лету его невысказанную мысль. – Обойдется. Будет, конечно, Валерке втык и разнос, не без того, но это уже пройдет по другому разряду. Нам, старикам, к строгачам не привыкать… Видишь ли, эта паршивка сама к нам пришла, чтобы ты знал. И, путаясь в соплях, настрочила обширнейшую явку с повинной. Вон, на столе лежит… эпистоляр, что твоя «Война и мир». Что у нас прописано в уголовном кодексе? Освобождается от ответственности гражданин СССР, завербованный западной разведкой, ежели он пришел с повинной и чистосердечно во всем признался. Пришла она и призналась. А потом сердчишко не выдержало. Для адмирала Гридасова этот вариант весьма неприятен, но другой расклад был бы еще хуже… Я на тебя надеюсь, Кирилл… Все я понимаю, что у тебя на душе, да, видишь ли, войны никогда не бывает ни слишком мало, ни слишком много. Война – она и есть война. На аркане тебя в «морские дьяволы» не тянули, сто раз мог гордо развернуться и уйти…
Мазур покосился на Лаврика.
– Там тоже могила, – сказал адмирал. – Ребятки молчать умеют…
Мазур молчал, избегая смотреть в сторону раздвинутой на полкаюты белой ширмы. Несколько дней назад, совершенно точно знал, принялся бы что-то вякать, в бутылку лезть, но вот теперь… Что-то сломалось в душе навсегда. Быть может, это означало, что он повзрослел окончательно.
– Как пистолет с одним патроном в старину? – спросил он, кривя губы в жалкой, вымученной улыбке.
– Вроде.
– Где расписаться?
– Вон там, Самарин покажет…
* * *
…Выйдя на шлюпочную палубу, он плюхнулся на белую скамейку и равнодушно смотрел, как исчезает на горизонте атолл – «Сириус» – уходил прочь от того места, где покоились на дне «Агамемнон» и «Русалка», где в подводной пещере лежали рядышком свои и чужие, где старший лейтенант Мазур показал себя настоящим «морским дьяволом», но получил взамен выжженный напрочь кусочек души. Ему казалось, что теперь он не сможет никого любить и верить никому не сможет – за исключением своих, родной стаи…
– Ну, наконец-то я тебя нашла…
Он равнодушно поднял глаза – Мадлен стояла над ним, в белых брючках и легкой синей блузке, свежая, веселая, улыбающаяся. Гибко присела рядом:
– Я, случайно, не помешала полету научной мысли? Если ты рождаешь эпохальную теорию, так и скажи…
– Да нет, – сказал он вяло.
И уставился на ее шею, едва заметно пульсировавшую артерию под ухом. Мазур вовсе не хотел ее убивать, он же не сошел с ума, в конце-то концов, просто задумался вдруг: если чикнуть лезвием по этому самому месту, по загорелой коже, все будет легко. Что-то с ним произошло, что-то в нем изменилось – он смотрел на человека и думал, как нетрудно, оказывается, его убить. Несильное движение клинка… Нет, он не рехнулся, но определенно стал другим, смотрел теперь на людей по-иному…