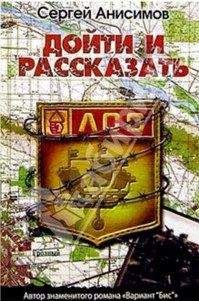По словам многочисленных свидетелей, подкреплённым неоспоримыми фактическими доказательствами случившегося, ворвавшиеся ночью в спящие село пьяные мародёры, в военной форме без знаков различия, открыли огонь в разные стороны, стремясь, видимо, вызвать панику. Огонь вёлся и по выбегающим из своих домов жителям, в том числе женщинам, детям и старикам, в ужасе пытающимся спастись от гибели. Несколько вооружённых старыми гладкоствольными ружьями мужчин и даже подростков, входящих в местный отряд самообороны, попытались урезонить бандитов, стреляя в воздух, но озверевшие от безнаказанности русские «воины-освободители» открыли по ним прицельный огонь, радостно крича, что «боевики» им «наконец-то попались».
Попытки сельского старосты Биноя, пожилого и уважаемого односельчанами Усама Гулиева объяснить нападавшим, что в Биное никогда не было никаких боевиков, а само село полностью мирно и лояльно законной власти Чечни, привели только к тому, что он был зверски избит и увезён военными с собой. В настоящее время его местопребывание неизвестно, а попытки выяснить в штабе ближайшей воинской части хотя бы самые общие сведения о том, куда и кем был увезён Усам Гулиев, наткнулись только на прямые оскорбления и угрозы.
Не удалось получить никакой информации о пропавшем и Алле Политковской, уже не первый год приезжающей в Чечню с целью рассказать миру о том, что творится в несчастной стране, заливаемой кровью и засыпаемой пеплом за свою попытку поднять голос против имперских амбиций уже не стесняющейся своей варварской прямолинейности России.
«Мне много угрожают и там, и даже здесь, в Европе,– сказала Алла Политковская, приглашённая для участия в специальной программе Би-Би-Си. – Я знаю, что и в Лондоне за мной следят специальные агенты ФСБ, пытающиеся запугать меня, заставить промолчать, но они ничего не добьются».
Среди привезённых нашей корреспонденткой в Лондон фото– и видеоматериалов, показанных в телепередаче Би-Би-Си, были леденящие душу кадры, свидетельствующие о кровавой бойне, которую люди в русской военной форме устроили в мирном селе. Испятнанные пулями стены, свежие белые щепки, в которые превращены стволы фруктовых деревьев, лужи крови между растоптанными полевыми цветами, и ряд только что установленных могильных камней– вот цена, которую мирные жители Биноя заплатили за удовольствие, которое получили вконец потерявшие последнее чувство разума вояки, глумясь над несчастными, напуганными людьми.
Авторы открытого письма выражают глубокое возмущение тем, что правительства мировых держав практически ничего не делают для прекращения кровопролития в Чечне, позволяя российской армии упражняться в садизме, воюя с беззащитным мирным населением. В заключение отечественные правозащитники выразили надежду, что хотя бы на этот раз имена преступников в погонах будут названы и они предстанут перед беспристрастным международным судом…»
Иногда мне уже кажется, что на самом деле всё было не так, что я многое просто не понял или понял неправильно. Мы почти не говорим об этом, да и видимся только случайно. Тем, кто не знал, в чём было дело, тому было, в принципе, без разницы. А те из нас, кто пережил это, молчат. Всю историю забыли очень быстро, в итоге оказалось, что она просто мешает людям. Да наверняка она и не одна такая… Мне странно видеть идущих по улицам улыбающихся людей или девочек-студенток, плачущих от несданного зачёта. Когда я читаю в газетах о Чечне, я пытаюсь напомнить себе, что та жизнь существует вместе с нашей, что всё чудовищное, что происходит на той выжженной и стонущей от боли земле, происходит одновременно с праздниками, концертами, счастьем людей здесь. Я могу кричать – и на это всё равно никто не обратит внимания. А объяснить всё так, чтобы люди поняли, я всё равно не могу. Они не поймут.
Я так и не знаю, куда делся Турпал – самый страшный человек в моей жизни, почему его не было в том бою. Я боюсь встретить его ещё раз. Я никогда больше не видел «Евгения Евгеньевича» и остальных «москвичей». Они все исчезли как-то сразу – судя по всему, забрав с собой Усама. То, что мне говорили о причинах, по которым он был им нужен, я помню, но не знаю ни того, правда ли это на самом деле, ни того, что из этого в итоге получилось.
Мы вернулись в Петербург в самом начале октября, старшие ребята из штаба «Спарты» почти всё сделали за нас. У тех, кто не хотел проблем в институте, у того их не было, остальные ушли. Ирочка исчезла из города почти сразу. Кто-то сказал мне, что она забрала документы и уехала одна куда-то на север. Я так понимаю, что ей было больно глядеть на людей. Могилы у Руслана так и нет, а прийти к его родителям я сумел только один раз. Тело Алексея удалось найти и вывезти – к нашему удивлению, морские пехотинцы восприняли эту просьбу как должное. Мы с Игорем и командиром «Спарты» летели с запаянным гробом в военно-транспортном самолёте до самого Петербурга, остальных отправили на два или три дня раньше каким-то кружным путём, через Моздок и Москву. Похоронили его на Волковском, на похоронах декан его курса сказал «трагически погибший». Я часто думаю, каким бы он стал врачом…
Я еду в автобусе, до Шуваловского парка осталось ещё несколько остановок. Кондуктор смотрит в моё лицо и уходит, не потребовав почему-то денег за проезд. В моих руках лыжи, хорошие пластиковые «Fisher Aircore». Сегодня где-то минус восемнадцать, в Питере считается, что для лыж это холодновато, но зато в парке будет меньше людей. Кроме того, сегодня вторник. На зачётную неделю я вышел вовремя, а до первого экзамена ещё достаточно далеко, и я успею побыть один. Та девушка, с которой я встречался, сказала, что не может выдержать, что я так много молчу, и я пони-
маю, что она права. Знаю я и то, что не один такой. Игоря я видел – он совершенно не изменился, он настоящий парень – наверное, лучший из всех нас. Он станет находкой для той женщины, которая будет достаточно умной, чтобы не копаться у него в душе.
Я думаю обо всём этом, когда бегу классическим шагом по промороженной лыжне, мимо заледеневших ёлок. Отросшие волосы под шапкой слиплись от пота, медленно падающий снег лезет в ноздри. Завтра можно попробовать съездить в Комарово или Репино, добраться мимо академических дач через озеро до могилы Ахматовой, это километров десять – или, ещё лучше, пятнадцать. Людей там сейчас не бывает вообще.
Я уже не надеюсь, что стану полностью тем, кем был раньше. Я живу нормальной жизнью, учусь, чтобы стать профессионалом, подрабатываю, чтобы не иметь необходимости брать деньги у родителей. Много бегаю. Я не стал выше ростом, не накачал никакой особенной мускулатуры, но нунчаки в рукаве мне больше не нужны, местная шпана почему-то перестала замечать меня, когда я бегу ночью по Петровской набережной. Просто бег или бег на лыжах оставляют много времени для себя, для того, чтобы погрести произошедшее с нами под пеплом нормальности уже прошедшего и оставшегося позади. Может быть, это плохо, что я молчу и думаю, вместо того чтобы жить и наслаждаться жизнью как почти все люди вокруг. Я верю, что когда-нибудь потом это пройдёт.
Но не думать об этом я не могу.
Я надеюсь, никто никогда не узнает мои мысли.
2004 г.