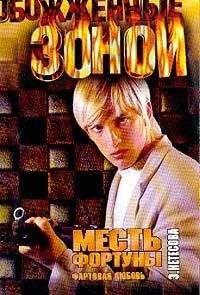Оглобля обрадовалась. А когда получила деньги, Оля первая посоветовала положить их на сберкнижку. Так и сделала.
«Значит, не нужен пахан, не надо канючить. Вон как судьба за все воздала, — подумала Тоська, с тоской вспоминая прошлое. Ведь вот и она могла стать медсестрой, если бы в те дни кто-то помог ей, посоветовал, поддержал. Но ни у кого не нашлось для нее теплоты. И покатилась жизнь по кочкам, — падая и подпрыгивая, разбивая в синяки бока и душу.
Ее не любили, она не любила. Никого не впустила в сердце, никем не увлекалась, ни о ком не вспоминала, не плакала.
Да ведь и ее никто не пожалел. Каждый брал свое, платя положняк, тут же забывал. Может, потом и вспоминали, об этом она не знала.
А вскоре Тоська с Олей переехали в новую квартиру.
Баба долго разглядывала ванну и санузел, гладила белый кафель. Как ребенок, открывала для себя преимущества новой жизни.
Вот она… Чистая, сверкающая кухня с газовой плитой. Здесь не надо топить печь. Не надо носить воду. Как хорошо, что хоть теперь, пусть под старость, под занавес, но будет жить как человек…
Одинокая колода. Из дерьма в замок попала. Хотя теперь— какая разница? Могла бы и в каморке век свой доконать. Но ведь повезло! «Без фартовых, без понту, никто навар не требовал, а вот надо же, из клевой бабы в путнюю старуху переделалась», — думала Тоська. И вышла на балкон.
Сверху ей виден парк. Он — как на ладони. Как здесь здорово!
«Но кто это там внизу гонится за мужиком? Что-то очень знакомое, — вглядывалась Тоська в фигуру догоняющего и узнала Кабана. Тог шныря Дрозда за шиворот схватил. Тряхнул резко, так что голова Дрозда мотнулась из стороны в сторону.
— Не сыщешь ее, пришью, падла, — пообещал Кабан.
Оглоблю от услышанного бросило в дрожь. Почему-то показалось, что фартовый хочет найти именно ее. Но для чего? Этого баба не могла понять.
Тоська знала: от фартовых, как от насморка, никуда не спрячешься и не уйдешь. Они все равно найдут, разыщут, заявятся, предъявят свой счет.
«Но ведь я нигде не облажалась, никого не засветила, не настучала. Слиняла по возрасту, по воле фортуны…» — бормотала Оглобля.
Ее трясло в липком ознобе. Она понимала: если ее ищет Кабан— добра не жди.
«Может, кто-то, спасая шкуру, натемнил на меня? Перевалил свою подлянку на мой калган?» — баба быстро погасила свет в комнате, прикинулась спящей.
У Ольги есть ключ, она сама откроет дверь. Но у пахана имеется отмычка. Что ему дверь, если он любой сейф отомкнет?
Вопрос лишь в том, сколько у нее времени в запасе, пока фартовые найдут ее. Да и что она может выиграть у времени? От силы два-три дня, не больше. Но что делать? Оглобле так не хочется уходить из жизни теперь, когда она наладилась. Когда у нее есть все, что нужно иметь человеку. Ее тело и сегодня радуется мягкой постели. Ее замороженное сердце оттаивает в новой квартире. Вклад на сберкнижке разбудил гордость, которая спала много лет. Уверенность едва стала пускать ростки и ее опять хочет погубить прихоть «малины».
«Нет, я не хочу отсюда уходить! Не хочу вернуться в прежнее! Мне слишком дорого то, чего я не имела и получила, как в подарок на старость, словно утешение за потерянное!» — не смирялось ошалевшее от горя сердце.
Тоська лежала на койке недвижно.
«А, может, самой пойти? Ведь нигде не заложила, а значит, трястись нечего», — размышляла она.
Оглобля слова вышла на балкон. Но внизу уже нет никого.
Тоська металась по квартире. А что если кенты нагрянут ночью? Они не будут спрашивать. Прикончат в постели молчком. Не будешь знать за что.
Оглобля села к столу. И вдруг услышала, как кто-то тихо вставил ключ в замочную скважину.
Тоська подошла к двери.
«Ключ или отмычка? Если отмычка — пахан пожаловал. Значит, дело — крышка», — мельтешили догадки.
Едва ручка двери повернулась, баба включила свет.
Цапля вошел уверенно, не смутившись, не пряча глаз.
— Жива, Оглобля? — спросил, прищурившись.
— А ты жмурить нарисовался?
— Хиляй в парк. К пахану. Да шустрее. Усеки, смыться надумаешь — схлопочешь маслину.
Оглобля рассмеялась в лицо фартовому:
— Линяет кто ссыт. Я— не вы. Сама нарисуюсь. Где Дядя?
— В манде! Сам тебя приволоку.
— Звереешь, кент! Иль мозги заморочены? Ты кому бота- ешь, падла? — взъерепенилась Тоська. И подступила к Цапле вплотную. — Режь, паскуда! — рванула кофту на груди.
Цапля ухмылялся. Эти проделки, старая рисовка блатных, были отменно знакомы ему.
— На «пушку» берешь, думаешь трухну. А мне дрыгаться нечего. Шмаляй, где твой раздолбанный пахан. Я скажу, где видеть его хотела, — накинула Оглобля старый плащ, и, закрыв дверь на ключ, вышла вслед за Цаплей в темноту.
Молча они шли по пустынным, тихим аллеям парка. Цапля вел Оглоблю в глухой угол, куда без большой на то нужды никто не приходил.
— Выплыла, мать твою!.. — отделился от дерева Дядя и встал на Тоськином пути — Привет, Оглобля!
— Чего? Приспичило? — ответила в тон.
— Отвали, Цапля, — рыкнул пахан. И, повернувшись к Тоське, предложил — Пошли, присядем напоследок.
Оглобля дрогнула нутром, но виду не подала. Твердо шагнула за Дядей в заросли жасмина.
Пахан присел на скамью, хлопнув по ней ладонью, пригласил присесть бабу.
— Ты что там в больнице ботала?
— Офонарел, что ль? Ни звуком.
— Когда после наркоза отходила в палате, звала нас. Все кликухи кричала. Врач усек. Позвонил в лягашку. Те — враз на стрему около тебя. Два дня слушали твое ботанье. А когда в себя приходить начала — перестала трехать. Мусора поняли, что понту не будет и смылись, — рассказывал Дядя.
— Ты операции терпел? Мог под наркозом за себя поручиться?
Пахан промолчал.
— И я не знаю, темнит кто-то иль без булды. Да только что с того, если и назвала кликухи? Меня никто из вас не навестил. Мусора на стреме стояли у хазы, шмонали, а все без навару.
— Захлопнись. То, что ты нас звала, шухеру не сделало. Лягавые тоже не без калгана. Знают, кто ты. Но тебе стукача на хвост повесили. Да, нянечку. Она, падла, подсадная утка. Усеки про то. Ей ты трехала о нас?
— Ни звуком. Да и туфта это. Олька не стукач. Никогда ни о чем не спрашивает.
— Умная лярва. Да только и мои кенты не пальцем деланы. Допытались. Ее, суку, застукали, когда от ментов выходила.
— Медсестра. По работе вызвать могли, — вступалась Тоська.
— Не тарахти! Где она, где мусора? У них свой, один общак. Зачем взяла ее, паскуду?
— Она меня с земли вытащила.
— Мы тебя туда засунем. И эта лярва не поможет. Иль тыква сгнила? Спуталась с хмыриной? Она не хевра тебе! — прикрикнул пахан.
— Чего духаришься? Сколько дышим — ни звуком про вас. Наклепали, чую.
— Ты сюда уши растопырь. Тебе ботаю — стукачка она. Следит за всяким бздехом.
— Что ж, усекла. Не такое бывало. Меня не расколет. А сама наколется. Молода меня «на понял» брать. Коль почую — дам знать тут же. Я пойму по ней.
— Прошлепали уже свое. Ты знаешь следователя Ярового?
— Нет, этого фрайера не ублажала.
— Ты про свое! Этот — не городские менты. Я его по Охе помню. Так ботают кенты, что теперь он здесь. Недавно объявился. С повышением взяли. Этот гад наперечет всех помнит, как облупленных. От него даже Привидение не ушел. А уж на что фартовый был! Пахан северных законников. Но и его накрыл Яровой.
— А мне он до фени, — отмахнулась баба.
— Слушай сюда, дура! Этот фрайер тебя не минет. Нарвешься на него, — считай, накрылась. Как два пальца обо- ссать — расколет по жопу.
— А чё колоть? Я в дела не хожу. С фартовыми не кентуюсь. Живу, как блядь на пенсии. Тихо. Никуда не суюсь.
— То ты ментам баки зальешь этой темнухой. Но не ему. Он найдет, как тебя колонуть! На предмет того, кого ты нынче греешь, с кем кентуешься, где наши хазы? От тебя ему ничего другого не надо. Дальше нас начнет мести.
— Никого не грею, ни с кем не кентуюсь, кентуха облысела. А хазы не знаю. Вы их меняете чаще, чем лягавые кальсоны.
— «На понял» брать станут. «Хвост» пришьют тебе, — предупредил Дядя.
— С чего дрейфишь? Вот зацепил тебя какой-то Яровой. Да я ему — как свисток транде — без навару вовсе, — не верила Оглобля.
— Ты нынче, как браслетки на руках. А грохнуть рука не поднимается. Чую, погорим на тебе. Но тогда — прощай. Никуда не слиняешь. И усеки: без трепу и темнухи, все станешь выкладывать тому, кого я тебе пришлю. Сама не шарь нас. Мы тебя надыбаем, коль нужда прижмет.
— А если ты мне будешь нужен? — спросила Оглобля.
— Ты меня по хазам не шмонай. А колоть станут, прикинься шлангом. Мне тебе мозги не вправлять. Ты теперь с «хвостом». Сама не дергайся никуда. А со стукачкой — язык в задницу прячь. Допедрила? Ну а теперь отваливай. И моли Господа, чтоб не сбрехнуть лишнее. Особо помни — Яровой не должен знать ничего про меня: ни кликухи моей, ни того, что паханю здесь, — встал Дядя.