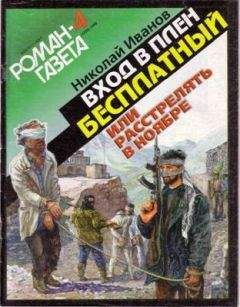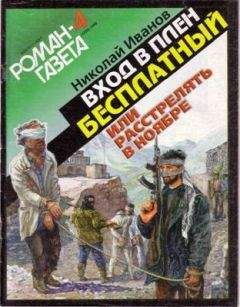А вот мой платок всегда при мне. В яме надеваю его на глаза. За руки вытягивают в землянку, выводят в траншею. Первое, что отмечаю, — запах летнего леса. Никакой сырости. Перед расстрелом, если не свяжут руки, сниму повязку. Какое оно, сегодняшнее небо? Примет ли оно мою душу? Господи, прости, что не верил в тебя…
Останавливают на одном из траншейных изгибов. Приказывают сесть на дно и снять повязку. Про небо уже забыто, взгляд упирается в обрубленные корневища деревьев, помешавшие окопам пройти в этом месте и потому безжалостно пересеченные лопатами.
— По сторонам не смотреть, — голос Боксера сверху.
Я не то что по сторонам, а и на него не смотрю. Мне все равно. Хотя что кривить душой? Просто знаю, а потому обманываю самого себя: если охранник без маски, значит, расстрел. Если нет… Лучше побыть в неведении, не обрубать сразу надежду. Она как мяч — то вверх, то вниз. К худшему уже готов, а если надежда мелькнет опять, но всего на секунду, и мяч на твоих глазах начнет падать вниз — страшнее. Нервы все-таки не железные, хотя в руках держать себя можно. Перерубленные лопатой корневища в данном случае важнее неба…
— Короче, то, что ты из ФСБ, у меня никакого сомнения, — начинает сверху старую песню охранник. Дались им комитетчики, наверное, достали. — Ну, а чтобы ты все же разговорился, я сейчас покажу такое, от чего, может быть, и крыша поедет. Отрубленные головы давно видел?
Поднимаю глаза. Боксер в маске! Мяч, не коснувшись земли, снова устремляется вверх.
— Так хочешь посмотреть, что мы делаем с пойманными контрразведчиками?
— Если честно — нет.
— А я думаю, что надо.
Зря подпрыгивал этот дурацкий мяч, тем более, я не просил об этом. В воображении возникает камера пыток, но не современная, с людьми в белых халатах и шприцами, электрическим стулом и тому подобным. Сознание рисует средневековье — цепи, костер, раскаленное железо. Залитый кровью топчан, где рубят головы…
Не хочу ничего видеть, подобное, даже если останусь вдруг жив, не уйдет из памяти. И если в самом деле свихнусь… Нет и нет, лучше пусть стреляют сразу. Нужно побежать, и тогда откроют огонь вслед. Авось не промахнутся.
Пока даже не дают подняться с корточек. Ноги затекли, прислоняюсь к стене траншеи. Боксер сбрасывает на колени кусок картона из-под сигаретной упаковки.
— Ладно, пока пиши. Автобиографию. Адреса родственников. Короче, если при проверке окажется, что соврал хоть в одном слове, пеняй на себя. И как сам думаешь, тебя станут искать?
— Станут.
— Да кому ты нужен? Если Россия своих погибших солдат зарывает в ямы экскаватором, то тебя одного и не вспомнят.
Догадываюсь: проверяет, стоит ли возиться со мной. Если в самом деле начнут искать, то можно сорвать куш. А значит, придержат хотя бы до первого торга. Если же никому не нужен, то тем паче не нужен им. Уж чего-чего, а одной пули не пожалеют. Или взмаха меча, если так нравится отрубать головы.
— Все-таки меня будут искать! — это и убеждение, и теперь уже игра в поддавки. Подсказка.
— Машина есть?
— Нет.
— Дача?
— Тоже нет.
— Что это вы, как только попадаетесь к нам в плен, сразу становитесь бедными? — не верит Боксер.
— А богатые сюда не ездят.
— Короче, пиши.
Биографию мою можно уточнить у любого военного журналиста в Москве, за это не боюсь. Если в самом деле начнут проверку, миф о моей контрразведывательной миссии наконец-то отпадет. А вот с адресами братьев и сестры — заминка. У меня с цифрами всегда напряженка, я и после суворовского училища пошел на факультет журналистики Львовского политучилища скорее не по призванию, а потому, что это было единственное военное училище в Советском Союзе, где напрочь, даже на первом курсе, отсутствовали точные науки.
С чистой совестью пишу любые цифры. Хотя что им родственники! В паспорте записан мой домашний московский адрес, и этого вполне достаточно, чтобы диктовать свои условия. И чтобы я их принял.
В артобстреле — перерыв. Какой-нибудь Мальчиш-Плохиш из федералов не успел подвезти снаряды, и неожиданно ловлю себя на мысли, что именно он, проклятый буржуинский выкормыш, становится для меня героем. Не подвезут боеприпасы — есть шанс остаться в живых. Оказывается, пленники смотрят на мир с обратной стороны…
Боксер забирает исписанный листок, кивает на повязку. Знать бы, что следующий раз на поверхности земли я ее сниму только через два с половиной месяца, уже осенью, тогда не забыл бы посмотреть, какое оно, сегодняшнее небо.
— Живой, — радостно встречают ребята, когда вползаю обратно в нору. — А мы уж думали…
О чем думали, расшифровывать не надо. К тому же звучит новая команда:
— Борис, на выход.
Его держат чуть дольше, чем меня. И только когда отыскался наконец пропавший с боеприпасами Мальчиш-Плохиш и артиллерия заработала легко и размашисто, Борис медленно вползает на свое место в братскую могилу. Ждет, когда закроют решетку, и сообщает единственную новость:
— За меня затребовали два миллиарда рублей. Заставили писать письмо родным.
Впервые закуриваем без разрешения. Огонек сигареты ярок, ему не дают покрыться задумчивым пеплом, раскуривают вновь и вновь.
— А хоть четыре, — банкир нервно усмехается. — Таких денег не то что у родственников — во всей Кабардино-Балкарии нет…
Скорее всего, это же он говорил и наверху, потому что продолжил спор:
— Говорят, пусть родные продают квартиры. Лучше я здесь останусь навек.
Это — новая и уже окончательная обреченность. После проверки назначат цену и за меня. Вряд ли она окажется ниже. Или будут держать до конца войны, на случай, вдруг кто-то из отряда попадется в плен и тогда можно будет обменяться. А самое страшное, если продадут родственникам какого-нибудь уголовника или насильника, получившего лет пятнадцать тюрьмы. Тот начнет, спекулируя мной, торговаться с Генеральной прокуратурой, которая, конечно, на подобное освобождение не пойдет.
Каждую новость человек переносит сначала на себя, примеряет, как новую одежку: ладно ли будет? Но все равно чувствуется, что Борис что-то недоговаривает. Ждем, когда огонек окурка воткнется в стену. Недорассказанная новость тяготит и банкира, да он и слишком честен, чтобы умалчивать что‑либо:
— Предложили, чтобы я расстрелял тебя, Николай. — И торопливо, словно я мог усомниться в его порядочности, добавил: — Я отказался.
После услышанного говорить совершенно не о чем. Вроде надо поблагодарить Бориса, что тот не сделал шаг к своему личному спасению, но вместо слов протягиваю руку и сжимаю в темноте ему локоть. И что, пора перекреститься? Кстати, а как крестятся: справа налево или наоборот? Дожили. Хотя, если мы православные, значит, все должно идти с правой стороны.
Стыдно, но пальцы сами тянутся ко лбу. Хорошо, что темнота и ребята не видят моего движения. Первый крест в моей жизни. Неужели для этого надо стать на грань жизни и смерти? Да и даст ли это что-нибудь? Утром войска в любом случае пойдут в атаку, и здесь уже ни крест, ни самый надежный «волчок» не поможет.
Глубокой ночью принесли тарелку с дымящейся паром кукурузной кашей. Поковырялись в ней только потому, чтобы охрана не швырнула еду обратно: гребуете, мол. Лучше — спать. Попытаться спать и приблизить развязку — пословица про ожидание права на сто процентов.
Снова — в одеяловый кокон, и снова — в свои мысли. А они об одном. Артиллерия усиливает огонь, значит, атака утром, с первыми лучами солнца. Если не засыплет собственным снарядом, то до утра протянем. Только зачем? Не все ли равно, где помирать: под землей или под кроной деревьев? Наверное, у деревьев, на свету, лучше. Хватит ли мужества сорвать повязку с глаз? Или пусть остается? Станут ли разговаривать перед этим? И кто здесь главный? Неужели Боксер? А что, если попросить отсрочку расстрела месяца на два-три?
Мысль настолько оригинальна, что раздвигаю плечами саван. А что? Пусть назначат сами место и время, куда мне прийти потом для исполнения приговора. Я бы приготовил все дома, раздал долги, хотя никому ни копейки не должен, — и пришел бы. Неужели им не все равно, когда меня пришлепнуть? Может, предупредил бы лишь сына, чтобы он через час-другой после выстрела вызвал «скорую» увезти меня в морг. Вот и все. Даже было бы благородно с их стороны, могли бы потом где угодно хвалиться этим.
А отсрочка — это было бы здорово. Я бы за три месяца успел сделать все.что намечал на всю жизнь. Или почти все. По крайней мере, главное. Наверняка с приближением дня расстрела мне становилось бы безумно тяжело, меня бы не несли туда ноги, но… но я бы пришел все равно. Здесь, под землей, клянусь в этом. А если бы дали еще самому выбрать место гибели, назвал бы парк около кинотеатра «Солнцево». Часов на одиннадцать вечера. Мой сосед по лестничной площадке — командир салютного полка, когда получил квартиру в нашем районе, предложил руководству сделать дополнительную салютную площадку именно там. Получится, что выстрел киллера прозвучит салютом моей жизни. Красиво, черт возьми, если бы это было придумано мной для очередного детективного романа, а не для себя лично…